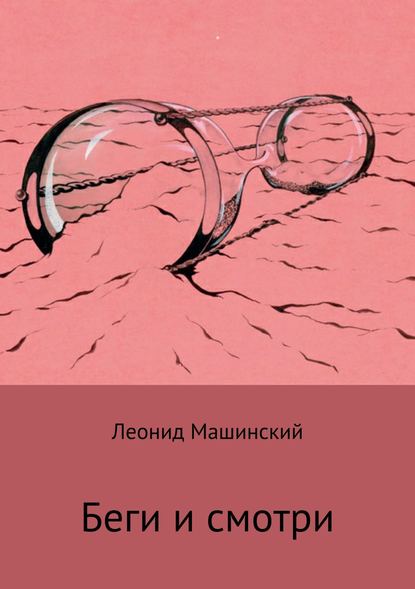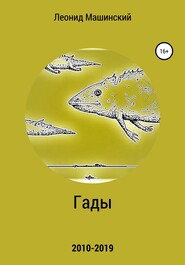По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ему и правда уже полегчало, снова появилась розовость на испещрённых склерозом скулах.
Время всё-таки ещё было, и он принялся мне объяснять разные вещи, касающиеся деревни, окрестностей, станции и заповедника, или, как тут у них это называлось, национального парка, который начинался сразу по другую сторону от железных путей. Я не всегда его понимал, но не оттого, что он говорил по-английски. Говорил он очень отчетливо – прямо таки оратор – закатывая мне каждое слово в ухо, словно какой-нибудь гулкий бильярдный шар в лузу. Просто слишком многое сейчас приходило мне на ум и отвлекало от текущего момента. Квадраты стёкол выходящего в сад окна напоминали мне стёкла какого-то чудовищного калейдоскопа, в котором барахтался и я сам, вскрикивая и кряхтя при поворотах цилиндра, – вокруг же раздавался сухой звон стекла. Или же я находился в гигантской паутине, в одном из её узлов, и дёргался как муха, и всё дрожало, и с паутины падала капля, свисая как атомная бомба, и, чтобы не слышать звука падения, я закрывал глаза и зажимал уши. Эти странные видения уводили меня слишком далеко от реальности. Но мне было приятно вернуться и вновь увидеть перед собой ставшее уже почти родным лица старика.
Он опять потрогал меня за руку, вернее положил сверху свою старческую руку на мои пальцы.
Я понял, что пора идти. Он вызвался меня проводить. Я отнекивался, но он сказал, что ему полезно ходить пешком и даже хорошо, что есть какая-то особая цель для прогулки. Тут, в городке, всё развлечение – ходить на станцию и смотреть на проходящие поезда. И это мне тоже что-то напоминало.
Я долго благодарил и кланялся, а дед кивал. Я так долго кланялся, что даже испугался, что тоже заболею паркинсонизмом.
На тропинке в саду я оглянулся на птичку. Она всё пела, напрягая маленькое горлышко. Горлышко было какое-то желтоватое. Нет, это был не соловей. Хотел спросить деда, но понял, что уж точно не знаю, как по-английски соловей. Надо было больше поэзию читать, какого-нибудь Китса, в оригинале. Или Шекспира… Ведь читал, а ничего не помню. Там соловей замолкает летом, а этот? Но раз такая у них весна…
– Бёрд? – только спросил я у деда.
– Bird, bird… – с готовностью закачал он головой.
С таким же успехом я мог бы спросить «Три?» или «Сонг?». Всё равно в каком-то смысле мы бы друг друга поняли. А был ли смысл в других смыслах?
Опять-таки пришлось проходить мимо собак. Та сетчатая конструкция из ремней, которая их, к счастью, сдерживала от нападения, теперь стала мне более ясна, хотя далеко не до конца. Я ухитрился попасть ногой в одну из петель и в общем-то мог сам выбраться на свободу, если бы не так испугался. Собачки могли бы сдвинуться с места и всем кагалом наброситься на меня, если бы их не удерживали, вбитые в землю и почти не видимые в траве, колышки. Они гуляли, как у нас часто гуляют коровы или козы, – на привязи. Впрочем, гулянием это трудно было назвать – они едва могли передвигать ногами – только приподняться и опять лечь или полуприсесть – кожаная сеть не выпускала их высоко, хорошо ещё – у такс короткие ноги. Оставалось загадкой, почему экстравагантная дама выбрала для расположения своих собак участок явно принадлежащий не ей, примыкающий к чужому забору. Единственное объяснение – потому, что он ближе других к дороге, ведущей от станции, откуда преимущественно и ожидались злые чужаки.
Моему благодетелю тоже явно всё это не правилось. Я хотел у него попросить ещё водички в какой-нибудь бутылке, с собой, но не решился из ложной скромности. Впрочем, мне почему-то не хотелось поить дедовской водой прибывающую ближайшим рейсом мою подружку. У меня в душе была к ней лёгкая враждебность. Что она мне сделала? Отчего-то я не хотел об этом думать. Лучше слушать, как поёт виргинский соловей, смотреть, как сверкают на солнце клыки саблезубых такс, и улыбаться. Примчавшийся с улицы ветерок имел отчётливый привкус полыни, я и этой горечи улыбнулся. Растёт ли в Америке полынь?
Дед ходил аккуратно и бесшумно, как слон. Я вспомнил о его больных ногах. При каждом шаге казалось, что его ноги сейчас подкосятся, а то и вывернутся коленками назад, как у кузнечика. Но этого, слава Богу, не происходило, раздавался только пластмассовый хруст. С протезами, говорят, даже бегают марафоны… М-да… У того, у кого нет ног, существуют особые стимулы к бегу.
Станция приближалась. Дед сзади спускался так осторожно, точно под его подошвами были не бетонные плиты, а залитая льдам детская горка. Уклон был небольшой, он не поскользнулся и не упал, я даже не успел подать ему руку, как он очутился рядом со мной на явно безопасном месте.
Поезд уже подходил. Звук, который он издавал при этом не вызывал у меня никаких новых ассоциаций. Я почему-то вспомнил про птичку и оглянулся, за стуком колёс её песню уже не было слышно.
Мы немного опоздали. Когда я оказался на платформе, двери вагонов уже стали закрываться. П-ф-ф! – сработала ничем не отличающаяся от нашей пневматика.
Метрах в двадцати от меня стояла молодая загорелая женщина, действительно загорелая и действительно в солнцезащитных очках. На ней был цветастый топик и узенькие джинсы, наверное боялась ободрать поклажей коленки и потому не надела шорты. Вокруг в живописном беспорядке валялись какие-то не совсем понятные крупные предметы.
При моём приближении женщина всплеснула руками, затопала ногами и стала причитать. Поезд тем временем зачухал с глаз подальше и вскоре исчез.
– … был? – услышал я конец вопроса, когда это стало возможно.
Старик в это время только ещё, пыхтя, взбирался на ступеньки платформы. Я опередил его бегом, предчувствуя расплату за несвоевременную явку.
– Ты слышишь меня? – спросила она.
– А? – я снова повернулся к ней, оторвав сочувственный взор от ковыляющего к нам старца.
Больше на платформе и в здании станции, кажется, никого не было. Даже птиц или собак.
Вдруг наступила зловещая тишина, только едва заметное дедовское шарканье. И соловья не слышно.
Звякнул и покатился упавший на бок баллон для подводного плавания. Я с некоторым неудовольствием осознал, что мы именно для этого сюда приехали. Я подставил ногу, чтобы баллон не рухнул на рельсы.
– Ловкач, – сказало подруга.
Я всё никак не мог разглядеть её получше. Какая она? Да и следовало ли так уж пристально разглядывать? Купаться так купаться.
Я познакомил её с дедом. И она вроде бы слегка смягчилась. Она весьма и весьма приветствовала всяческое общение с местным населением. И по-английски она говорила не в пример лучше меня, у нас бы сказали «владела в совершенстве». Так, что они сразу же запели на два голоса, а я едва поспевал улавливать хоть какую-нибудь суть из их ускоряющегося галдежа.
Она первым делом пожаловалась, какой я недотёпа, и извинилось за меня, а потом сразу рассказала страшную историю о том, как ей пришлось настрадаться, пока она тащила все эти штуки сюда одна. И если бы не милый молодой человек, с которым она случайно познакомилась в вагоне (это упоминание, очевидно, должно было вызвать у меня реакцию равности), то ещё не известно, сумела бы она выгрузиться на этой платформе. Во всяком случае, часть инвентаря она точно бы повредила, выбрасывая его как попало на перрон. Но молодой человек помог ей выгрузиться, а машинист (может, это был автопилот?) любезно подождал, пока она не заберёт все свои пожитки, и не отчаливал и не закрывал двери, рискуя нарушить график и получить нагоняй от начальства, пока не убедился, что с высадившейся пассажиркой всё в порядке. Такое внимание! Ещё бы, она тут у него была одна пассажирка. Ездит ли вообще ещё хоть кто-нибудь в этих поездах? Разве что милые молодые люди…
Дед же, увидев наше снаряжение и уяснив таким образом цель нашего прибытия, принялся с жаром объяснять по какой такой причине интересно для исследования дно именно этой бухты. Всё это я уже слышал на кухне, но пропустил мимо ушей. Подруга же моя была само внимание. Американцев она всегда слушала, раскрыв рот и распахнув глаза. Надо ей, что ли, посоветовать очки снять – а то кто оценит? Интересно, она в самом деле всего этого не знает или из вежливости? Даже я этого не могу понять.
Я уже совсем перестал понимать, а чём они говорят. Было очень жарко, только что перевалило за полдень. Я почувствовал, что очень устал и мне захотелось сесть, но на платформе, как на зло, не было никаких скамеек. Тоже мне забота о людях! Я мог бы присесть на один из наших рюкзаков, но не решился, боясь попасть под очередной град уничижительных реплик. Лучше буду слушать птичку, её опять слышно, она поёт там, далеко, в дедовском саду. Птичка и ветерок – вот мои друзья. И зачем всё время париться на солнце? К чему весь этот загар? Сами ведь американцы говорят, что она вреден…
Подруга брезгливо дотронулась до моей потной спины.
– Ворон ловишь? – спросила она.
– Почти, – ответил я измождённо.
– Right, right, – оптимистично затараторил дед и стал нас подталкивать куда-то мягким обширным брюхом.
Оказывается, мы шли к морю. Ну да, чтобы надеть акваланги и нырнуть в пучину. Я этого, кажется, никогда в жизни не делал. То есть с аквалангом. И что это меня на такие авантюры потянуло? Наверное, подруга виновата. С подругами всегда так: они утверждают, что нужно лезть на Джомолунгму или нырять в Марианскую впадину, и попробуй отвертись. Они ведь сами лезут вперёд, ты только сопровождаешь. А как не сопроводить? Как – если ты не хочешь её потерять? А в самом ли деле я так уж этого не хочу? Может… Но отставим нехорошие мысли. Не теперь. Я, разумеется, буду нырять вторым. Но это ничего не значит. Пусть проверит дно, температуру воды. А я следом. Вот и всё.
Дедушка уже в третий раз, по крайней мене для моих ушей, объяснял, что в недавно устроенном здесь национальном парке намереваются строить дамбу и шоссе, вернее то, что у нас называется эстакадой. Ему и всем жителям городка это очень не нравится, поскольку нарушение экологии плохо скажется не только на животных и растениях, которых вроде хотело охранять здесь правительство, но и на них самих, т.е. на человеках. Они протестуют как могут, но олигархи делают что хотят. Дедушка хочет взять ружьё и стрелять в случае необходимости, защищая дикие просторы от посягательства не в меру предприимчивых сограждан. И так далее и тому подобное. Что-то из голливудского киноромана. Он, Голливуд, кстати, здесь неподалёку, так что ничего удивительного. Кинопродюсеры черпают сюжеты из жизни, а жизнь обкрадывает самих кинопродюсеров. Благо, у них есть, что взять.
Дедушка хочет, чтобы сюда приезжали туристы со всех стран, но чтобы они вели себя хорошо – не курили, на сорили и не плевали в бухту, которую мы сейчас видим перед собой.
Бухта была молочно-голубой. Подозрительно молочно-голубой, поскольку в сухом воздухе не чувствовалось никакого намёка на туман. Словно кто-то оставил для воды окошко на ярком масляном полотне и заполнил его пастелью. Нырять во всё это мне почему-то не хотелось.
К тому же, из всех этих разговоров я понял, что и смотреть-то там, под водой, вообще не на что. Никаких тебе коралловых рифов, ни соответственно разноцветных рыб. Акул здесь нет, так что и бояться нечего. Хотя одного, говорят, съели. Съели или не съели, не знают точно. Может, сам уплыл. Мало ли чего случается по пьяни, или там наркотики тем более. Ничего толком не знают. Был человек и нет человека. Прямо как у нас. А полиция? А что' полиция? Да, что толку с вашей полиции, если бабушкам приходится защищаться при помощи такс-мутантов…
Только не очень мне понятно, о каких таких деревьях всё талдычит этот старик. Он мне стал почти родным, а теперь уже надоел, особенно с тех пор, как стал беседовать не со мной, а с подругой. Скучно.
"Trees, trees…" – ну и что триз? Сам знаю, что триз! Какие деревья могут быть под водой? Водоросли? Перевёрнутые? На голове что ли стоят? Мне причудилось что-то вроде отражения леса в воде, картина в духе Куинджи. Я подумал, что об это отражение можно разбить себе лоб. Но ведь там плохо видно – какое-то молоко. Деревья огромные, триста, нет, шестьдесят метров. Триста – это самое большое, которое было измерено. Но мы всё равно так глубоко не нырнём – кишка тонка. Я и не собираюсь погружаться глубже десяти метров. Даже на этой-то глубине я не уверен, что буду чувствовать себя хорошо. Зачем мы туда лезем?
При этом мы уже раздеваемся, и я не без облегчения стягиваю с себя липкие шмотки. И трусы бы снял, но как-то перед дедом неудобно. И потом – в традициях ли это – в акваланге и без трусов? Вот она – могла бы старичка порадовать, хотя бы топлесс… Нет, зачем? А вдруг у него случится сердечный приступ? Или ему уже это недоступно?
– Деревья, деревья, – дед всё показывал руками, как они растут и тянутся со дна.
Как бы там ни было, а искупаться в самом деле было бы неплохо. Мы стояли на бетонной набережной. Прямо под нами, всего на метр ниже, начиналась неведомая глубина. Края бухты едва угадывались по зеленоватым очертаниям растительности. Одна только чайка появилась и исчезла из виду. Никого. Пустота. Пустыня. А я полагал, что Америка густонаселённая страна. Во всяком случае, бытует мнение, что тут полным полно дураков, которые любят плавать с аквалангом. Может, они тусуются где-нибудь в другом месте? А мы оказались здесь по неопытности? Куда смотрела подруга? Почему она выбрала именно эту бухту?
Только море пахло успокаивающе, йодом и всё. И оно почти не шумело, только шипело как змея, но птичку, разумеется, уже не было слышно. Без неё мне стало как-то тревожно. Я увидел ещё насекомое, колыхающееся на низкой волне, что-то вроде колорадского жука, он перебирал лапками.
– Ну! – она уже была одета, т.е. экипирована. Купальничек в голубовато-розовых тонах, тоже пастель, под цвет моря. Как это она угадала?
Ей, как всегда, пришлось ждать, пока я водружу на себя своё обмундирование. Если бы я ещё знал, как это делается. Она и даже дед принялись помогать мне, и от усердия чуть не столкнули меня раньше времени в воду.
С баллоном за плечами, в маске и с загубником во рту было совсем не так, как можно было бы предположить. Но и в этом угадывалось что-то знакомое. Это – как лёгкое и холодное прикосновение медицинского инструмента. Не всякому делали ампутацию, но всякий фантазёр представлял себя на хирургическом столе. Да-да, это маска с наркозом! Мне даже захотелось её сразу же снять. Но подруга подтолкнула меня кулаком в спину.
– Ты как? Нормально? У тебя глазки какие-то… поплыли.
– Паплылы, – пробормотал я.