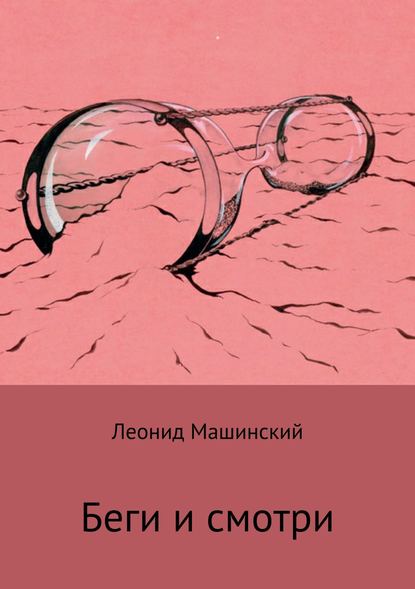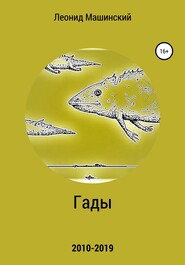По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любая победа на Земле носит привкус Пирровой, и я не особенно обольщался по поводу того, что после свершившегося бегства мне станет надолго хорошо. Скорее, я сознательно готовился к трудностям. Но пока они лишь предстояли, и это радовало, возбуждало, как быка красная тряпка, вернее – как вообще любая тряпка, которой вызывающе водят у тебя перед носом… Я хотел действия, но так сильно и долго его хотел, что уставал и ложился спать. К тому же, находилось ещё много всяких насущных хлопот. Деньги были нужны. В том числе – на бегство. Неплохо, если их будет побольше. Всегда неплохо. Словом, я медлил. Хотя медлить было всё труднее, потому что меня изрядно подташнивало от приторности собственного воображения. Может, уже ничего и не надо, а?
Но книга? Это слово должно было воздействовать на меня пробуждающе, но и оно уже не действовало. Что-то должно было произойти: метеорит с неба прилететь, штаны порваться в самое неподходящее время, может быть, даже должен был кто-нибудь умереть, чтобы сдвинуть меня с мёртвой точки. А может, это я должен был умереть? А как же книга?
Но чем чаще я задавал себе подобные вопросы, тем монотоннее они становились. Вместо того, чтобы побуждать к поступку, они меня усыпляли, убаюкивали и, в лучшем случае, инициировали деятельность во сне. Но и там, во сне, я никак не мог добраться до заветной деревни и, тем более, начать писать книгу.
Однажды я проходил мимо вокзала и понял, что, если не уеду сейчас, то не уеду никогда. Конечно, нужно было забежать домой, взять кое-какие вещи. Благо, до дома было не так далеко и там, дома, никого не было. Пожалуй, я не решился бы на побег, если бы там кто-нибудь был.
Когда я уже собрал всё необходимое, мне захотелось включить телевизор и улечься на диван. И подумалось, что в какой-то момент маломальский комфорт действительно становится важнее так называемой любви. О, как мне возжелалось расслабиться! И пускай это выглядело бы как поражение – лежачего не бьют. Каких же сил стоило мне не сойти с избранной мною узкой дорожки! Аж поджилки дрожали. А ведь ещё надо было написать записку, чтобы не волновались.
Я не собирался совершать необратимые поступки, хотя возможно только они способны вызывать фатальное удовлетворение. Нет, я ещё хотел вернуться, – если повезёт. Я был уверен, что смогу вернуться – хоть на пепелище. Ну нет, вот этого, пожалуй, не надо.
В принципе, жена могла догадаться и сама о моих настроениях. Я ей не один раз за последнее время намекал, что возможным решением наших проблем могла бы стать белее или менее продолжительная разлука. Я чувствовал, что начинаю вызывать у неё психологическое отвращение, и не хотел быть ей в тягость. Говорят, что так бывает у всех перед разводом. Но я не собирался пока разводиться. Я думал, хотел думать, что всё ещё наладится. Просто не мог поверить, что всё это может закончиться навсегда раньше, чем кто-нибудь из нас умрёт. Отчего я так цеплялся за этот союз? Бог весть. Но в том, что он распадается, я всем нутром (впрочем, как и разумом) ощущал какую-то глубинную неправильность. Однако, каким образом я мог бы доказать жене свою правоту, если само моё искусство убеждать она была склонна ставить мне в вину?
Я начинал сходить с ума от вынужденного воздержания, а уж обет молчания, живя с нею в одной квартире, мог принять, только заведомо поинтересовавшись, в каком сумасшедшем доме мне удобнее было бы в скором времени поместиться. Я, казалось, готов был во всё поверить и всё принять, но почему-то ни во что не верил и ничего не принимал. Беда в том, что я уже успел убедиться, насколько точно мои предсказания сбываются. Пророком, даже случайным, быть отнюдь не радостно. Дело, наверное, обстоит так, что только сам пророк и может повлиять на ход предсказанных им событий. Но если он по малодушию или недостатку сил этого не делает, всё свершается так, как он видел. В этом, несомненно, чувствуется справедливость, но когда тебе справедливо отрубают голову – разве это намного приятнее, чем когда ты умираешь безвинным?
Я писал записку и поливал её слезами. Мне было грустно и немного страшно. Возможно, я никогда уже больше не вернусь. Свою жизнь я никогда не мог прогнозировать с такой уверенностью, как чужую. Кому понравится этакий пророк? Ветерок смерти щекотал мне затылок. Умирать ещё не хотелось. А кому хочется? Но вот такой уход из дома – это маленькая смерть – покруче всякого там оргазма. Возможно, она мне не простит, не пустит назад. Что ж.
Но если я всё-таки напишу книгу… Нет, наверняка мне уже можно было ставить диагноз. Налицо была сверхценная идея. Психи в первую очередь становятся бродягами. Я всегда был склонен к бродяжничеству – может быть, именно потому, что был не совсем нормальным?
Но с чего я взял, что кому-то уж так должна быть интересна моя личность? Откуда у меня представление, что я гений, способный подарить человечеству, что-то действительно новое? Это уж точно – мания величия!
И однако, даже растоптав себя подобным образом, я буду писать эту книгу. И это будет никому не нужный подвиг. Возможно. Мне только не нравится, что всё это попахивает безбожным французским экзистенциализмом – "чумой", "тошнотой" и пр. С этими товарищами мне никак не хотелось бы стоять в одном ряду.
Отчего я бегу? Оттого, что мне не везёт в жизни. А почему мне собственно должно везти? Кому везёт? Дуракам? Может быть, только потому они радуются, что чего-то не понимают? Совсем от иллюзий, вероятно, нельзя избавиться, но, видимо, следует стремиться к иллюзиям всё более высокого порядка. Такова жизнь. И если этого подъёма по ступенькам иллюзий не происходит, теряется само ощущение жизни.
Была ещё опасность, что меня подведёт здоровье. Один спецназовец заменил собою заложника и умер в машине террориста от сердечного приступа. Не вынесла душа поэта… А вдруг?
Если бы я промедлил ещё несколько минут, то не ушёл бы никогда. Вообще-то я против насилия над самим собой – очень редко оно приносит достойные плоды. Но совсем без этого насилия тоже мало что получается. Надо почувствовать или, как сейчас модно говорить, проинтуичить то самое мгновение, в которое благостное насилие особенно необходимо. Тебе невыносимо трудно, но ты веришь, что скоро станет легко. И подтверждением твоих чаяний может стать лишь внезапное освобождение – вдруг ты уже летишь, хотя совсем недавно еле влачил своё существование – как каторжник в колодках. Но вдруг я ошибаюсь и иду не тем путём и не туда? Кроме Бога мне не на кого надеяться – если Он действительно милостив, то поможет мне.
Лифт не работал, и я спускался по лестнице как автомат. Ужас нарастал. Я словно второй раз отделялся от матери, только теперь уже сам сознательно рвал пуповину. Сколько их может быть в жизни, вот таких, вторых, рождений?
И только в электричке я понял, что совершенно спокоен. Всё уже произошло. Я ничего не мог изменить. Наверное, жена уже прочитала мою записку; но даже если не прочла, обязательно прочтёт, пока я буду ехать назад, если я всё-таки струшу и дам обратный ход. Нет, мне уже не хотелось этого делать. Разве что только сработает какая-то инерция. Или – банально не сумею устроиться.
Я устроился и довольно быстро. Смешно, какие только истории не рисовались мне до того, как всё это произошло в реальности. Памятуя, что в Древнем Китае процесс поступления в обучение к какому-либо мастеру назывался не иначе, как стоянием на снегу перед домом такого-то, я воображал себе бабку в виде строгого гуру и почти намеревался провести первую ночь на улице, в самых тяжёлых условиях.
Мне хотелось помучиться физически, чтобы хотя бы на время отступили а задний план муки нравственные. Но не получилось.
Не буду долго описывать, как и к кому я попал на жительство. Не то чтобы это было так уж тривиально. Просто мне стыдно. Человек, который меня приютил, оказался намного добрее и проще моих доморощенных схем. Хозяйка, разумеется, не отказалась от денег и помощи; но было бы в тысячу раз труднее, если бы я попал к какой-нибудь экстравагантной отшельнице, которая из-за непомерной гордыни отказывается ото всего. К счастью, таких людей в природе не существует. Я, во всяком случае, не встречал.
О той, к кому я волею судеб попал, как и о всяком человеке, можно было бы написать отдельную длинную повесть, но у того, что' перед вашими глазами, есть только один герой, сам автор. Уж простите меня, что я вас не подвожу за ручку и не знакомлю с одной из милых деревенских старушек.
И действительно – я увидел дым из трубы. Только выглядел он более убого, чем в мечтах. Сама труба оставляла желать лучшего. А внутри, в доме, было душно. Хорошо ещё – не совсем похолодало. Это с одной стороны. А с другой – может быть, когда выпадет снег, дым из трубы будет смотреться красивее? И запах был какой-то не такой, как мне мечталось.
Вот уж чем плоха действительность, так это тем, что приходится расставаться с мечтами. Очень многие люди до того привыкают жить во своими уютными надеждами, что совершенно теряются, когда эти надежды оправдываются. Я не исключение.
Рубить дрова и топить печку на самом деле – это совсем не то же самое, что грезить об этом. Нет, это не хуже – просто по-другому. Я научился, привык, даже приспособился вовремя открывать и закрывать заслонку, и бабка перестала баяться, что по моей милости мы угорим.
Лес вокруг был густой, и я надеялся найти там грибы. Но, как назло, в том году всё лето стояла страшная засуха, даже в сентябре дождей почти не было. Так что и грибам и взяться было неоткуда. Дым из трубы не так радовал ещё и потому, что и без того воняло гарью, горели болота. Этой вонью я уже вполне успел насладиться в городе.
Что же оставалось? Писать? Да, я неоднократно предпринимал такие героические попытки. И надо сказать, что перед тем, как я отправился сюда, у меня было немало задумок. И я обольщался насчёт их количества, имея в виду, что уж хотя бы одну из них сумею воплотить. Но то, что совсем недавно стояло у меня перед внутренним взором как живое и просилось на бумагу, теперь почему-то показалось мне серым и скучным. По-хорошему – ничего не хотелось, хотелось только спать – да и плакать ещё иногда, когда вспоминал об оставленной в городе семье. Плачет ли кто-нибудь обо мне? Вечный вопрос. Как хочется, чтобы о тебе кто-нибудь плакал, и как это эгоистично.
Так вот, поспать тоже толком не удавалось, так как я не привык спать в такой духоте. Я сожалел, что не прихватил с собой спального мешка – в нём можно было бы попробовать спать на веранде – погода ещё позволяла.
Птицы улетели на юг. В лесу было тихо. Из бесприютных облаков стал-таки понемногу выделяться дождь. Почти все листья опали. Иногда хотелось волком выть, я и выл, когда был уверен, что убрёл достаточно далеко от населённых пунктов. Впрочем, пунктов-то было – одна деревня, и в той всего несколько жителей – дачный сезон давно кончился.
Однажды утром выпал первый снег. Но тут же растаял. От этого всё стало ещё только чернее и грустнее. Я стал выпивать за ужином не одну, а две, в то и три рюмки водки.
Писанину свою пока не жёг, но рассчитывал, что она пригодится на растопку. Хотелось домой. Но кто там меня ждал? И как я мог вернуться, не сделав решительно ничего?
Да и что за мистическое действо – эта книга? Во все времена главным критерием успеха писателя была издаваемость. Я и раньше писал, но кто знает об этом? Зачем я это делал? Что и кому хотел доказать? Себе самому? Своей жене? И опять я занимаюсь этим бессмысленным, порочным делом? Дело ли это?
Ох, какая же в моём сердце разверзлась тоска! Я потерял всяческую опору. И этот ужас толкал меня всё-таки предпринять хотя бы ещё одну попытку.
Я садился за шаткий бабкин столик, как, быть может, садился какой-нибудь потерянный полярник за рацию, намереваясь в стотысячный раз подать SOS в неприветливое безответное пространство.
Перед литературой всегда стояла дилемма: О чём следует писать – о том, что есть, или о том, что должно быть? В те или иные исторические эпохи в тех или иных культурах склонялись то к одному, то к другому решению.
Писать о том, как тебе тяжело, если тебе действительно тяжело, т.е. писать правду – довольно легко. Но иногда такие писатели бывают невыносимы – взять хотя бы классика от русской поэзии Надсона – недаром его мало кто помнит – да и стишки были так себе. Но делать хорошую мину при дурной игре – насколько убедительно это будет выглядеть?
Да, это большой соблазн – создать мир по своему образу и подобию, специально под себя, этакий сладкий мирок, куда можно будет убежать от досаждающих проблем. Что-то вроде наркомании, использования галлюциногенов. Это уж от твоего таланта зависит, насколько будут замысловаты и привлекательны твои грёзы. Многие хотят морали, хотят, чтобы им объяснили за что… Но как в выдуманном мире, так и в этом, "лучшем из миров", кажущемся нам не выдуманным, причины знает кто-то другой и, возможно, никто другой, как только Бог.
Безответственно было бы претендовать на роль Божьего вестника, не имея на то достаточной санкции, каковой, очевидно, может являться одна Благодать. Посему я не склонен прибегать к гуманизму ни в каких его формах. Впрочем, совсем избежать этой пагубной человеческой слабости – тоже вряд ли представляется возможным.
О чём же я хочу поведать миру? И хочу ли я действительно, чтобы мир меня услышал? Для кого змея оставляет свою старую кожу, когда выползает из неё? Может быть, писательство моё – только что-то вроде нездорового физиологического процесса. Кажется, об этом что-то сообщал писатель из «Сталкера» Тарковского. Ничто не ново на Земле! Но у того, уже хрестоматийного, писателя были изданные книги, известность и деньги, а у меня?.. Ах, я бедненький! Мне даже некому мстить, как мстила Маргарита за Мастера, потому что, собственно говоря, я толком и не пытался пробиться в издательства. Что это? Гордость? Страх неминуемой боли, как перед кабинетом зубного врача? Или, может быть, я в глубине души всегда был уверен, что пишу говно? Вот это – интересное предположение!
Но даже если так, вы от меня всё равно не дождётесь, чтобы я сдался. А может быть, и надо сдаться? Поплыть по течению, забыть всё, отречься ото всего? Разве не к этому призывает буддизм? Да и Православная Церковь не очень одобряет художественное творчество, святым оно представляется детским лепетом… Но даже если я лепечу по-детски, всё-таки наверное лучше быть ребёнком, чем закостеневшим и закончившимся в себе совершенно взрослым?
Ну хватит задавать риторические вопросы. Публика требует сюжета, а мы вот уже почти какую страницу никак не можем сдвинуться с места. Происходят ли в качестве результата движений моего пера хотя бы приключения идей?
Удивляет ли кого-нибудь загнанный, маленький, никчёмный человечек? Что я могу сделать? Броситься на вас – как крыса, или раздуться – как жаба, пытаясь показать свою важность.
Может быть, настоящая тишина наступает только тогда, когда наступает отчаяние, и только в этой тишине слышны божественные голоса? Ну слушай, слушай – они тебе нашепчут!..
Прошло всего две недели. Я уже два раза ездил в ближайший городок, чтобы пополнить запасы продовольствия. Покупал бабке мелкие подарки, чему она искренне радовалась, как умеют радоваться только очень одинокие и бедные люди.
Книга не двигалась, и я даже создал себе целую теорию с запасом, насчёт того, что при смене обстановки, даже при самых распрекрасных условиях, ничего не может получиться раньше, чем через месяц. Тут я лукавил сам с собой сразу в двух отношениях. С одной стороны: если я созрел, чтобы писать, то должен был начать это делать сразу, как только у меня в руках оказалась ручка. С другой: если я действительно не мог этого сейчас делать, то вряд ли облегчение произойдёт через месяц – например, после армии я совершенно не мог ничего писать более года.
Есть такое глупое выражение, недавно отчего-то вошедшее в моду – «писательский блок». Наверное, это чисто английское, как и «сплин». У русских писателей не бывает блока, т.е. был Блок, но один и всё такое. Т.е. я хочу сказать, что привычнее сказать, что кто-то, мол, исписался или, скажем, продался и стал писать всякую дребедень. Такое у русских писателей бывает – сплошь и рядом.
Но как я мог исписаться, ещё не издав ни одной книги? Абсурд! Нонсенс! С кем я так долго разговаривал, что успел уже всё сказать и утомиться?
Однажды, вернувшись в прогулки по лесу и принеся с собой несколько горстей не знакомых бабке грибов, которые она однако, не без содрогания, согласилась мне приготовить, я таки решил приступить к книге вплотную. Сяду и буду сидеть, пока что-нибудь ни напишу – вот как я решил – ну чем не Будда?
Бабка не одобряла мои ночные бдения, потому что тратилось много электричества. Никакими деньгами я не мог умерить её тревогу по этому поводу. Но она всё-таки терпела, скорее из человеко-, чем из сребролюбия.
Два часа я сидел, тупо глядя на облезлые закопчённые обои. За эти два часа по ним не проползло даже таракана. В конце концов, я захотел пи'сать и пошёл на двор. Бабка проснулась и заворочалась, что вызвало у меня дополнительное смущение. На улице было морозно, сияла полная луна. Это меня немного взбодрило.
Я вернулся за стол и мечтал до утра. Это было какое-то проклятие. Ведь того, что за эту ночь пронеслось у меня в голове, вполне хватило бы на приличную повесть. А то и на роман! Когда я проспался после этого неудавшегося приступа графомании, полчаса ничего не мог вспомнить, как будто всё, что было до настоящего сна, тоже был сон. И почему это казалось мне интересным и важным?