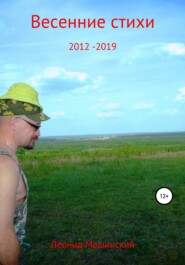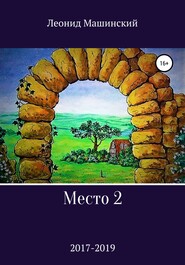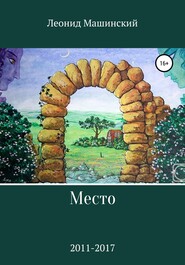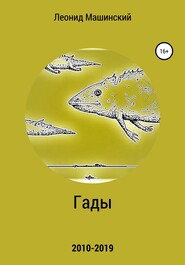По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отчасти, это объяснялось тем, что окружающие места были мне знакомы с детства. Всё здесь, конечно, с тех пор сильно изменилось. Я узнавал и не узнавал – и в этом был весьма своеобычный кайф.
Было и ещё одно толстое обстоятельство. Совсем недавно в одном из не очень серьёзных журналов я прочёл о том, что в Подмосковье замечены летающие лягушки. Статья была крайне бестолкова, написана не специалистом – так что, скорее всего, это была утка (а не лягушка). Но что-то в ней взволновало меня. Я стал вспоминать, даже кинулся к справочной литературе, но поблизости не сумел обнаружить ничего путного. В библиотеку брести было лень. Единственное, что я вспомнил, это то, что действительно есть какие-то так называемые летающие лягушки или кваквы (может, кряквы?), которые собственно не летают, а планируют с ветки на ветку, как летяги, используя для этого растопыренные перепонки на руках и ногах.
Нечто подобное я и ожидал здесь увидеть. Почему бы нет? Климат меняется в тёплую сторону. Конечно, человек всё вокруг засирает. Но некоторые виды от этого только выигрывают. Иногда – вовсе неожиданные. Отчего бы – не оказаться в их числе летающим лягушкам? А может, они уже мутировали и научились летать по-настоящему? Так я рассуждал.
Кряквы (кваквы?) к тому же красивы, т.е. имеют на брюшке желтые или красные разводы. Тут уже получается целая райская птичка. И поёт. Никогда вот правда не слышал, как поёт кваква.
Друг мой был недоволен моей отлучкой, не совсем безосновательно виня меня в сердце своём за непростительное фантазёрство.
А я уже узрел то, что хотел. Кто-то летал в воздухе. Это были птицы, множество птиц. С розовым оттенком. Хотя возможно, это происходило от надвигающегося заката. Я уже нафантазировал себе и чаек, и пеликанов, и попугайчиков. И вот – воочию увидел лягушек среди этих стай. Они были темнее прочих и редко-редко махали лапками, вися в воздухе почти неподвижно и вертикально, развернутые спинками ко мне, а носами – в сторону уходящего солнца. И не галдели они как птицы, а нежно пели: ква, ква, ква! Но этого – не передать словами!
Я хотел позвать композитора-друга послушать, но он и сам уже всё увидел и услышал. Созерцая меня на расстоянии, он красноречиво крутил указательным пальцем у своего седеющего виска. Наверное, выражение на моём лице достигло опасных пределов блаженства. Птиче-лягушачий галдёж звал меня куда-то ещё наверх, в убегающую даль, к речке, неведомо куда…
С правого бока, чуть в стороне, тянулся глухой дощатый забор, довольно новый, любовно выкрашенный тёмной морилкой. Возле этого забора стояло несколько рыболовов со спиннингами. Тут вспомнилось, что и я, узнав, куда мы едем, прихватил с собой на съёмки спиннинг, специально купил, хотя с самого детства ни разу не ловил никакой рыбы. Теперь он мог пригодиться. И какой же я был молодец, когда предусмотрительно кинул его под сиденье в кабине грузовика!
Я вернулся к машине, и друг мой с облегчением засобирался, думая, что и я уже готов ехать. Но я разочаровал его, начав рыться под сидением. Он не понимал, что я там потерял. Терпя стоически его иронические взоры, я, наконец-то, выудил из-под стула своё, телескопически сложенное в метровую тросточку, удило.
– Хочешь, пойдём поудим? Ты вроде умеешь… – предложил я другу для очистки совести.
Но он скептически помотал головой. Ясное дело, он видел отсюда лишь часть забора, а что там, за забором, не понимал. Я же, глядя на остальных рыбаков, на ходу перенимал их тактику и стратегию.
Червяков они выкапывали здесь же, чуть ли ни у себя из-под ног. И, насадив наживку на крючок, закидывали удочки (т.е. спиннинги) за забор, как можно подальше. В том, что где-то там, за забором и под горой, протекала река, можно было не сомневаться, хотя бы потому, что время от времени то один, то другой из удильщиков наматывал на катушку длиннющую леску и возвращал из-за забора конец удила с поблескивающей под ним, точно новая монета, небольшой серебристой рыбкой.
Такой способ лова, разумеется, был мне в диковинку, но именно эта странность заставила меня попробовать свои силы, так как я люблю всё неординарное и необычное. Рыбаки, ловящие вслепую, вызывали моё уважение.
Рыба, правда, была мелкая и, в основном её тут же съедали вертящиеся под ногами, предупредительно мяукавшие, кошки. Но на это никто не обращал внимания, все были увлечены делом. Делом жизни. Прямо – как наш режиссер.
Я закинул свою удочку (т.е. спиннинг). И – о чудо! – первый же бросок оказался удачным. Я даже расслышал, как грузило плюхнулось в воду. Скоро торкнуло. Соседние рыбаки стали указывать подбородками и бровями: мол, тяни. Я стал судорожно наматывать на барабан скрипящую леску. И вот уже скользкая красноглазая плотвичка – трепыхается в моей руке. Я не знал, что с ней делать, и скормил ближайшему коту.
Скоро ты там?! – раздражённо позвал друг.
Я начал спускаться к нему с горы, ещё ощущая на ладони слизь и чешую только что выловленной рыбы. Сильно пахло рекой. Оказавшаяся теперь позади, половина неба окончательно покраснела от заката. Всё это – словно меня загипнотизировало.
Когда я спустился, друг ударил меня по плечу:
– Эй! – заглянул он мне, как психиатр, в глаза.
Мы сели в машину и поехали. Не помню, кто вёл – неважно. Очевидно было, что этот съёмочный день уже безвозвратно потерян. Я обернулся и ещё раз посмотрел на летающих лягушек. Наверное, их тоже можно поймать на спиннинг. Наверное, всё-таки вёл не я.
Кафка
«Повсюду будет серый сумеречный свет, днём и ночью, во все времена…»
Бардо Тёдол
А вы знаете, что мать Кафки, уже после его смерти, написала роман, хотя и весьма небольшого объёма, в котором умирает она, а не сын, и она затем является сыну в виде призрака.
Об этом, в свою очередь, написала исследование одна дама, моя современница. Вообще-то, она зарабатывала на жизнь писанием детективных романов, а ещё более того – торговлей. Вблизи дома, где я когда-то жил, у неё был небольшой магазин. Торговали там исключительно шляпами. Сначала она служила там директором, но скоро подкопила денег и сама стала хозяйкой.
У женщины этой был друг и любовник, один довольно богатый и известный грузин. Оба эти персонажа отличались некоторой приятной старомодностью и, где бы они ни находились – хоть в соседних домах, – постоянно вели между собой переписку. Эта переписка тоже опубликована, разумеется, далеко не полностью и с купюрами.
Из этих писем, а также из уже упомянутого специального исследования писательницы, мы можем узнать, что её в первую очередь интересовала не личность Кафки и не его произведения, и даже не личность его матери, а только тот образ, в котором она после смерти – как это описывалось в указанном выше романе – вернулась к сыну.
Дело в том, что призрак этот, призрак матери – а не отца, как у Гамлета – имел некоторые языческие, а конкретнее, античные черты. В своей работе писательница отнюдь не безосновательно проводит параллель с представлением о Флоре, Артемиде и других богинях и героинях древнегреческих и древнеримских мифов.
В общем-то истины, которые сообщала сыну не существующая во плоти мать, были достаточно банальны. Естественно, творчество матери не идёт ни в какое сравнение с творчеством сына. Однако именно она произвела его на свет, и это даёт ей право, как всякой матери, считать – хотя бы отчасти – дитя своей собственностью. Разумеется, сын должен прислушиваться к материнским поучениям, особенно, если мать специально навестила его даже после смерти.
Может быть, случись таковое на самом деле, она смогла бы предостеречь его от некоторых ошибок, в конечном счёте поведших к болезни и смерти? Но если бы он так уж предостерегался – написал бы он тогда то, что написал? Это вечная дилемма, вечная история между матерью и сыном. Мать хочет спасти и сохранить ребёнка, провидя его трагическое будущее. Но решает не только мать.
Так вот, призрак был не обычен уже тем, что не имел лица. Т.е. диалоги с сыном вело не целое изображение человека, а – если так можно выразиться – только его бюст. Тут напрашивается аналогия с японскими квайданами, в которых привидения зачастую изображались лишёнными ног, в чём и было их видимое отличие от настоящих людей.
Но, если у японцев ноги иногда заменял дым или нечто неосязаемое и бесформенное в этом роде, то в разбираемом романе бюст был снабжён как бы провисающим книзу венком, этакой растительной виньеткой, которая, однако, простиралась никак не ниже предполагаемой талии.
Т.е. мать вещала сыну, как бы выплывая из кустов или из стога свежескошенного сена, с той только разницей, что эти флористические украшения у неё всегда имелись с собой как непременные атрибуты.
Отчего мать Кафки выбрала для своего призрака именно такой странный облик – остаётся загадкой. Именно эту загадку и силилась разрешить, очарованная её несуразностью, писательница. Грузин, весьма интеллигентного полёта человек, подсказывал ей, что, вероятнее всего, корни данного явления следует искать в Эдиповом комплексе. Разумеется, предосудительно и глупо всё сводить и выводить из постулатов фрейдизма. Но, будучи для сына первой женщиной уже самим фактом своего существования, мать, даже после смерти, хотела бы соблюсти телесную неприкосновенность и чистоту. Там, ниже кормящей груди, конечно же, что-то есть, но это что-то целомудренно скрывается в кущах невинного растительного царства. Фрейд бы не преминул назвать такую юбку цензурой. А я, как острослов, даже склонен назвать её фиговым листком.
Сама же писательница полагала, что интересы матери скорее лежали не в сфере подавленной сексуальности, а в сфере, так сказать, близкой к Танатосу. Имеется в виду самый обычный архетип прорастания, возобновления жизни весной, который наиболее зримо иллюстрируется именно восстанием зелёных великанов из праха, из почти не видимых глазу семян. «Если семя не умрёт…». Т.е. призрак матери в таком образе получал недостающую любому видению основательность, те самые корни, которые выводили его на свет. А не терял бюст своей растительной бороды потому, что должен был вновь приземлиться и укрепиться. И через корни – вернуться во прах.
Весьма сомнительная теория, но красивая. Тут вспоминается и омфал Диониса и происхождение чернозёмов, а более всего – разнообразные библейские притчи. Сойдемся на том, что мать уже, как подобает растению, принесла свой плод. И плод оказался весьма достойный. «Судите о дереве по плодам его…».
Я вспомнил о шляпнице и её милом друге, когда переезжал на новое место. Переезд мой поневоле должен был быть стремительным. Новые жильцы, желающие занять мою старую квартиру, буквально стояли уже на пороге. И я сбивал каблуки, бегая то на пятый этаж, то с пятого. Лифт недавно поставили, но он ещё, как водится, не работал.
Однако мне было весело, когда я в очередной раз проносился со своими пожитками мимо знакомой витрины. Что-то она совсем забросила своё дело, или не в меру углубилась в романы, или стала прибаливать – пожилая уже женщина. Прилавок поразил меня своей бедностью – однообразные и серые женские шляпки вряд ли могли привлечь чьё-то внимание. К тому же, фасад магазина выходил не на улицу, а во двор. Трудно было поверить, что когда-то торговля тут процветала. Но я помнил эти времена.
Грузин подолгу жил в Москве, на той же улице, только двумя кварталами дальше от центра. Почти каждую неделю я видел его машину у крыльца магазина. Он был очень галантен, часто привозил букеты. Пешком, похоже, совсем не ходил. Но почти не толстел – хорошая конституция. У дамы тоже была хорошая фигура, только вот с возрастом она начала одеваться как-то всё более и более блёкло. Грузину, наверное, это не нравилось, но он не подавал вида.
Мне подумалось, что вот и она стала сознательно, или скорее бессознательно, играть во Флору. Осенью листьям положено желтеть, блёкнуть. Почему она не хотела быть, например, клёном? Не от того ли, что клён – мужского рода?
Все эти наивные радости богатых людей не вызывали моей классовой ненависти. Да и были ли они столь богаты?
Лихорадка переселения целиком захватила меня, но всякий раз, пробегая мимо шляп, я вспоминал какой-нибудь маленький эпизод. Магазин, казалось, уже был закрыт. Экспонаты за стёклами пылились, как в музее. На некоторых крючках – ничего не было – это выглядело, как прискорбные щербины. Жива ли старушка? Жив ли её обожатель?
На душе становилось грустно, но и тепло. В конце концов, все мы должны стариться и умирать, любя друг друга.
Пока я не обрёл более-менее постоянного пристанища, мне пришлось жить в довольно странных домах. И этот дом, рядом со шляпницей, не являлся исключением. Дело в том, что это был как бы дом в доме, выстроенном по новому проекту, пятиэтажка – внутри нарастающего гипермодного гиганта.
Мне всё как-то было раньше недосуг, но однажды вечером я вышел на лестничную клетку, чтобы проверить, как идут дела у строителей.
Вместо чердака моему взору открылось уводящее в даль пространство, некий коридор, попасть в который можно было, взобравшись на небольшой бетонный уступ, как на подоконник. Наверное, в недалёком будущем здесь примостят ступеньки. Рискуя испачкаться строительной пылью и мусором, я влез на возвышение. Назначение коридора представлялось мне совершенно непонятным. Это была то ли какая-то мощная вентиляционная система, то ли нечто связанное с электричеством. Опасаясь, что меня таки ударит током, но не в силах превозмочь нахлынувшее любопытство, я двинулся вперёд. Благо, никаких предостерегающих надписей видно не было, да и публики, которой возможно пришлось бы что-то объяснять, не было заметно.
Как полагается, бетонный коридор был весьма гулким. Шаги отдавались в стенах и сводах вместе с хрустом раздавливаемых кусков штукатурки. Когда-нибудь стены отделают кафелем, а потолок пластиковыми плитками, а то и зеркалами. Впрочем, может быть, это помещение всё-таки имеет только чисто техническое назначение?
Сверху свешивались какие-то жестяные ленточки, они больше всего напоминали серебристый дождь, каким украшают ёлки. Похоже было, что их привязали за оставленные торчащими из потолка концы арматуры. Эти потолочные торчки намекали на какой-то шахматный порядок. Серебряный гибкий частокол свисал аккуратно до самого пола, но не ниже, т.е. едва чиркал, но не волочился по нему. Все эти Вероникины волосы время от времени ходили волнами. Их движения не были хаотичными, в них заключался ритм. Но я никак не мог уразуметь, чем он вызван – ветром ли, который устремлялся навстречу мне из невидимого конца коридора или статическим электричеством, стекающим сюда с плоскости крыши. Судя по характерному потрескиванию, я больше склонялся ко второй гипотезе.
Шуршащие ленты начинались не сразу, а метрах в пяти от входа в туннель. Я сперва опасался к ним прикасаться. Они казались слишком наэлектризованными. Но очередная волна так сильно подбросила ближайшую ко мне серебряную змею, что она сама «укусила» меня за палец. Раздался щелчок, но боли я не почувствовал, вернее, почти не почувствовал. Можно было идти – на свой страх и риск.
Я шёл, то и дело ощущая лёгкие уколы от колыхающихся и приникающих ко мне полос. Иные же, так же как я заряженные, отшатывались от меня, точно в испуге. Всё вокруг шипело и щебетало, словно лес, полный пресмыкающихся и соловьёв. Волосы на голове стояли дыбом, отклоняясь – как привязанная игла под действием магнита – то в одну, то в другую сторону. Было страшновато, но и здорово – электричество действовало возбуждающе.