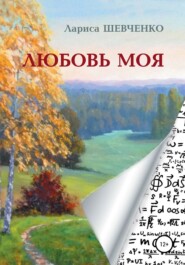По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Реквием
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Есть или была? – внимательно уточняет Иван Петрович.
– И есть, и была, – грустно выражает своё мнение обруганный Ивонов, тем самым давая шефу возможность продолжать высказываться и спорить.
В приоткрытую дверь зала заглянул запыхавшийся вахтер.
– Иван Петрович, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Москва на проводе. Срочно, – доложил он.
2
Шеф с заместителем проследовали в кабинет. Но разговоры, шёпотом начатые в зале, не затихли, а перешли в громкую фазу.
– Если мне не изменяет память, в Париже не скажешь по внешнему виду, богатый человек идёт или нет, а у нас жуткое расслоение, пугающая разница, – осторожно произнёс грустный, нелепый, исковерканный долгим приспособленчеством инженер Белков из группы Ивонова. Высказался и трусливо замолчал.
– Можно подумать, во Франции бывал. А может, и в Америке? – ехидно фыркнул другой инженер, Власьев Борис, который был намного моложе Белкова. – Что с вами? Накатило?
Белков недоумённо заморгал, пожал плечами и отреагировал на неожиданный выпад коллеги смущённым смешком.
– Нарвались на грубость? Досталось, разделал вас Борис под орех! Выпад получился отменный. Сказал, будто по спине огрел. Молодежь и раньше не всегда была снисходительна к старикам, а теперь в особенности. Норовит нанести удар по чувству собственного достоинства и даже испытывает стыдливое удовлетворение, узнав о неудаче соперника. А некоторые и нестыдливое – не постесняются воспользоваться затруднительным положением соседа, друга, даже родственника, не ощущая при этом ни малейших угрызений совести. Не стану ехидничать, хлеб у Бориса отбирать.
Мы, старшее поколение, не принадлежим к подобной категории людей. Мы всегда стремились облегчить участь ближнего. Нас не прельщала, даже пугала такая перспектива развития взаимоотношений между поколениями, – со знанием дела внесла свою пространную лепту в разговор мужчин Инна. Не упустила случая вставить своё слово. Но на Елену Георгиевну всё же украдкой посмотрела.
И неясно было: сочувствует ли она Белкову или просто в силу привычки вклинилась в разговор и комментирует услышанное. Она и сама не определилась. Ни следа неловкости, ни жалости на её лице в эту минуту, только привычная, чуть ехидная спокойная ирония как результат многотрудного жизненного опыта, добавляющего морщинки на её подвижной, достаточно привлекательной физиономии.
Инна Григорьевна весьма сдержанно относилась к Белкову, с умеренным отвращением. Не одобряла за то, что его слова редко превращались в дела, про себя обзывала его «чертов старпёр», с таким же предубеждением относилась и к его инженерным способностям. Её раздражала его манера втягивать голову в плечи, привычка смотреть искоса, будто исподтишка задумывая гадость. Часто ловила себя на мысли, что в нём не было ничего исключительного, примечательного, а главное, в нём не наблюдалось так любимой ею в мужчинах русской широты. Скучен он был, неинтересен, если не сказать больше: безжизненный, весьма посредственный субъект. И лицо его постоянно напоминало ей физиономию человека, застигнутого врасплох за каким-нибудь непристойным занятием. Не сказать, чтобы она питала к нему жуткое отвращение или совершенно не выносила его, нет, конечно, только отзывалась о нём всегда не особенно одобрительно, хоть и не зло, и в её голосе при этом часто прорывалась брезгливость. Но своего мнения она никому не навязывала.
Инна потеряла к Белкову интерес и, подавляя в себе медленно нарастающее желание обрушить на него целый шквал оскорблений, отвернулась от коллеги.
– Ну и ляпнул, сказал, что плюнул. Это у вас в порядке вещей? На вашем месте я бы помалкивал в тряпочку. Париж ему снится! Свою жизнь здесь бы разгрести. Сейчас требуются доказательства на право существования, – тоном, исполненным грубого негодования, едко произнес совсем молодой, с недоверчивым взглядом инженер Зарубин.
Его оскорбительно насмешливые серые глаза в этот момент смотрели с вызовом. Своим вихрастым чубом и бойцовской стойкой он напоминал раздразнённого петуха.
– Я со своей стороны, не стесняясь, скажу: если вы не сумели проявить себя в Союзе, так сейчас докажите свою состоятельность. Вы теперь, как говорится, – хозяин положения. Не просиживайте штаны, не фантазируйте и попусту не раздражайте присутствующих. Боритесь не на живот, а на смерть, как того требуют законы капитализма. Нам, молодым, пример покажите, – с неприязненной насмешкой добавил Зарубин.
Белков негодующе обернулся к нему.
– Я ничего, как вы выразились, не фантазирую. «Поучайте лучше ваших паучат»! Позволю себе поставить вас в известность, что Остапа Бендера из меня не выйдет. Я – слишком социалистический. К тому же я считаю, что балансирование на острие ножа не может продолжаться бесконечно долго. А если так, то страна наша катится в преисподнюю – вот как обстоят дела. И если уж говорить о перспективах, то я бы предположил в ближайшем будущем одни лишь сложные проблемы и провалы.
У меня давно росло и множилось в душе предощущение больших перемен, и ничего тут удивительного нет, ведь беспокойство – естественный спутник неизвестности. Поначалу перемены не выглядели бесповоротными. Помню, вид у всех нас был очумелый, как у крестьян из глубинки, впервые приехавших в столицу. И вот теперь мы окончательно потеряли смыслы и ориентиры. Нельзя ставить под сомнение идеалы старшего поколения, стирать ореол былого могущества и славы нашей страны.
Нам надо заполнять жизнь добрым и высоким, а мы бешено гребём под себя всё мелкое, пошлое и надеемся, что чья-то мифическая предприимчивость возродит нас к жизни, заново зажжёт и утвердит нашу вытесненную перестройкой даже обыденную мечту. Нашим олигархам просто-напросто не хватает элементарной порядочности на то, чтобы желать направить награбленное у страны и народа на развитие производства и науки. Они, скорее всего, ещё долго будут удовлетворять свои бесконечные, ненасытные потребности.
На кого мы возложим ответственность за происходящее? Кто бы помог нам разобраться что к чему? Не разминуться бы нам со своим временем. Сейчас нет людей, готовых умереть за идею, – призвав на помощь всю свою силу воли и сдержанность, бестолково, обиженно и нудно бубнил Белков.
– Когда это было, дай бог памяти? Нечего прошлое ворошить. И не сгущайте краски. У вас от страха поджилки трясутся, потому что вы не вписываетесь в современную картину жизни. Вам не понятен её невероятно запутанный узор? Как мне представляется, ваша звезда закатилась, не успев взойти. Вы и при Союзе не смогли доказать, что способны на нечто большее, чем все от вас ожидали. Не нашли средств выражения своего таланта? Теперь есть на что свалить все свои неудачи: не было простора для творчества, да? Потом простор обрели, да денег нет. Так? А теперь вы воображаете, что пали невинной жертвой перестройки.
У вас крыша поехала, ходите как пришибленный, бормочите несуразицу. Ни дать ни взять – бедолага. Не выдумывайте! Ваши мозги всегда оставляли желать лучшего, вы нахлебник, бесталанная серость и нытик. На поддержание собственных штанов заработать не можете, а туда же… Уму-разуму нас учите, прошлое восхваляете. В пострадавшие лезете? Хотите нас разжалобить? Он, знаете ли, робок, не решается носа высунуть из пазухи своей жены, боится, что накостыляют по шее. Эдакое неприспособленное существо, которому нечем подогреть своё тщеславие и которое бесполезно нахваливать или ругать.
Нашли отговорку в перестройке? Вы – дачник-неудачник. Я не прав? Или всё же преуспели в этом как нельзя лучше? Вы же теперь, говорят, преимущественно заняты «на вольных хлебах», тогда на кой ляд вам институт? Вам здесь уже не по чину, – с язвительной любезностью в голосе продолжает Зарубин и глядит на своего товарища, надеясь на его одобрение. Но тот сидит, привалившись к стене, и дремлет под музыку романсов, тихо льющихся из его наушников.
Прямой намёк на непрофессиональное занятие Белкова был встречен бурей негодования инженеров, расположившихся на галерке и явно сочувствующих замученному нищетой старику. Их тоже безденежье «погнало в поля» и они завели огороды.
– Вы о чем? – переспросил Белков с недостаточным негодованием в голосе.
Он в буквальном смысле поперхнулся жёсткими словами молодого коллеги. Морщась от неловкости, красный от стыда и обиды, он, угнувшись, то нервно теребил полы своего заношенного пиджака, то крутил верхнюю пуговицу рубашки. И лишь иногда косо оглядывался на ровесников, ища их поддержки.
«Ну вот! Осталось перейти к изобличению слабостей других коллег, а вслед за этим к обмену дерзостями. Из-за чего сыр-бор разгорелся? И чего это Зарубин напустился на беззащитного? Не красит его грубость. Не ожидала я, что он может наслаждаться сомнительным удовольствием досадить старому человеку. Какая девальвация человеческой личности! Хочешь услышать интеллигента, а видишь перед собой хама и жлоба. Зарубин, таков твой гаденький характер? Мог бы и мягче выразить свою концепцию, ведь Белков из числа бессловесных, да и взгляды его на прошлое не отличаются своеобразием.
Нет, вы посмотрите на него, какой взъерошенный, с колючими глазами! Счёл уместным, как сам признался, разъяснить Белкову всю безнадёжность его положения, а тому в его годы уважение окружающих требуется, уверенность, что не зря жизнь прожил. Дорого могут обойтись старику злые, обидные слова коллеги. Случись что, чем тогда оправдает Зарубин своё поведение?.. Иисус Христос тоже был невиновен, а его всё равно распяли. И в наше неуверенное время трудно между плевелами находить зёрна добра.
Сам-то ты, Зарубин, из каких будешь? Если сможешь – сотрешь в порошок, а нет – так станешь стелиться, пресмыкаться? С нижними чинами жесток, категоричен и резок, а с высшими – наоборот? Зря я его, пусть даже мысленно, отхлестала? Может, Зарубин сам пропитался взрывной горечью осознания безысходности и удушающей неуверенности. И всё же…», – недовольно кривит губы Инна, молча осуждая грубый выпад молодого коллеги.
Елену Георгиевну коробят и беспокоят бестактные заявления Зарубина, удивляет способность подпевать насмешникам. Она старается подавить в себе нарастающее негативное чувство и незаметно для себя начинает выбивать кончиками длинных пальцев на кожаной папке с документами мелкую нервную дробь.
«Вот он, диалог глухих. Себя только слышат, – вздыхает она. – Все напряжены до предела. Маленькой искорки хватит, чтобы взорвались. До чего доводит безденежье! Людям, постоянно находящимся в стрессовом состоянии, можно простить некоторое временное раздражение. И ведь этот же Зарубин совсем недавно над племянником ночей не спал, на коленях перед доктором стоял, молил помочь спасти, плакал…»
Кира вспомнила, что грустные мысли о жертвенном поведении молодого инженера заставили Елену Георгиевну вернуться памятью в своё прошлое. Всплыла многолетней давности поездка на юг. «Шум моря, ослепительное солнце, обжигающая ноги галька и сынок Антоша. В воду тащила его – он оглашал визгом пляж, из воды – тоже, только уже по причине противоположной. Было ощущение счастья, несмотря на скудность и никудышное качество столовской пищи. Много ли нам тогда надо было, чтобы ощутить райское наслаждение!
А в конце отпуска я встретила на пляже однокурсницу Таню. Несколько лет не виделись, а тут, как говорится, карусель нашего бытия на миг чуть-чуть притормозила, и так совпало, что мы пересеклись. Каким болезненно-жадным взглядом она охватила моего сынишку! Сколько в нём было зависти, горечи, обиды на судьбу. Муж – тот самый однокурсник Вовка – обнял её за плечи, прижал к себе и увлёк подальше от источника страдания. Он жалел жену. Он умел любить, но когда они были студентами, не смог противостоять своей маме, потребовавшей избавиться от будущего ребенка.
Мне тогда показалось, что измученный взгляд этой молодой красивой несчастной женщины с признаками шизофрении. «Не может быть!» – воспротивилась я своим ощущениям. Я тогда долго не могла избавиться от тягостного состояния жалости. Саднило сердце, возмущённое несправедливым роком. Даже возникло на некоторое время состояние иссушающей злости и обиды. Помнится, с трудом переборола себя и твердо решила не поддаваться нервам, не расслабляться. «Какая была девчонка! Наехало на Танюшку колесо судьбы, опрокинуло, раздавило. Слишком жестокая расплата за единственную ошибку. Какие радости отпустила ей судьба? У каждого из нас есть уязвимое место. Чем она теперь живёт, что дает ей силы?» – грустила я, вспоминая её тоскливо-безумные глаза».
А Зарубин продолжал сыпать едкими фразами, ритмично ударяя рукой по спинке стула, будто отсчитывая промахи ответчика. Набухшие кровью вены на висках говорили о том, что он не шутит. И с каждым его словом Белков всё больше поникал и всё глубже вжимался в стул. Ему казалось, что его публично раздевают. Он слушал отповедь коллеги с непроницаемо-мрачным, угрюмым видом, но усталые складки его лица углублялись, болезненно опущенные уголки губ ещё больше заострялись. Он беспомощно и как-то автоматически шевелил плечами, и его сухие нервные руки бессознательно теребили полы ветхого пиджака.
«Зачем так грубо накинулся и злыми словами отхлестал человека? Ему ведь давно перевалило за шестьдесят. Перегибает палку Зарубин. Надо будет в личной беседе указать ему на недостаточно развитое чувство такта, на неумение уважать чужие права, – почувствовав в глубине души укол совести, подумала Елена Георгиевна. – Сколько помню себя, мы не позволяли себе глумиться над старшими, никогда не опускались до оскорблений, если они даже с нашей точки зрения были не правы, мы превыше всего ценили в себе интеллигентность, а теперь все молчат, никто не становится на защиту пенсионера.
Хотя чему тут удивляться, теперь каждый за себя. Конечно, любому поколению людей приходится заново возвращаться к вопросам воспитания и образования, редактировать, корректировать их в связи с меняющейся обстановкой в обществе, но базовые, нравственные основы всё-таки должны сохраняться.
А может, Белков сам позволяет обращаться с собой подобным образом, сам нарывается на грубость и обречён становиться мишенью для насмешек? И всё же ребята слишком распоясались. Какой в этом резон? Он же никому из них не конкурент, места чужого не занимает, последний кусок хлеба не отнимает. Чего ему не могут простить? Возможно, слова Белкова гораздо ближе к истине, чем им хотелось бы верить, и это их раздражает?
Старик в отцы Зарубину годится. Этого-то как раз он и не принимает во внимание и не делает скидки на возраст. Молодые жёстче нас? Бесчувственные, безразличные, будто эпидемия равнодушия прошлась по ним. Не по всем, конечно…
Другие времена пришли, и, естественно, у молодых другие приоритеты. Я склонна предположить, что злость и равнодушие у них от бессилия перед обстоятельствами, от неудач, от страха и неуверенности перед будущим. Мельчает человек, не имея достойной для ума работы. Голос истинно мыслящего человека всегда был тихим, а они на всю ивановскую… Откуда в них этот запал толпы? Слепая власть случая или всё-таки тенденция? Не понимают молодые, что их поколение стоит на плечах предшествовавших им людей. Им бы сейчас больше думать, классиков читать, свой духовный мир развивать, обращаться к искусству, подзаряжать свои сердца красотой и гармонией, а у них одни деньги в голове.
Оправдываются тем, что выживают. А наши родители и мы в пятидесятых годах тоже не жировали, но духом не падали, мечтали, работали, учились для будущего. Деньги уходят, а внутреннее богатство на всю жизнь остаётся. Духовный человек уверенней. А в чём моя вера? Только в науку и верю».
Елена Георгиевна зябко поежилась. Потрогала батарею отопления: чуть теплая. «Экономят», – подумалось ей. В пуховый платок плотнее закуталась, и, похоже, забылась. Вспомнила дружка своего детдомовского. Тогда тоже было холодно…
«Мы идём в деревню на горку к домашним детям. Глубокую осеннюю колею давнишняя вьюга сравняла с лугом, разделяющим два села. Теперь легкая струящаяся позёмка бежит по санной дороге и, застревая на обочинах, образует маленькие наметы. Позёмка ластится, льнет к накатанному следу, но, едва прикоснувшись, скользит по нему, как по льду, и ветер гонит её всё дальше и дальше. И только сияющая серебристая пыль некоторое время ещё курится над тем местом, где только что мчался белый стремительный ручеёк.
Мы расставляем ноги в огромных валенках. Позёмка огибает их и проскакивает между ними, словно через открытые ворота, оставляя на носках обуви бугорки снега, и продолжает свой путь. Чистейший снег слепит глаза, зажигает в сердце радость. Мы зачерпываем его горстями, прикладываем к лицу, потом лепим снежки и кидаем в ближайшее дерево. Там остаются следы, подтверждающие нашу меткость. Мы радуемся каждому пустяку, визжим от восторга! Если нас хватятся – накажут. Обойдется! Кому мы нужны…
…Возвращаемся назад. Поднялся ветер, но он тёплый и хотя забирается под хилые пальтишки, не вымораживает нас, тощих и голодных. Пошёл густой снег. А мы не боимся! Это же не вьюга с её круговертью и хаосом, воем и стонами, надрывающими сердце. Её не раз приходилось слышать зимними вечерами…
Идем с дружком и вспоминаем одну такую злую метель.
«Пурга тогда стонала на чердаке, трясла оконные рамы резкими порывами ветра. Дребезжали стёкла, кряхтела и бряцала щеколдой входная дверь. Нашу комнату освещал слабый свет керосиновой лампы. Язычок огня нервно вздрагивал, точно сам боялся бури. Мы сидели вокруг плиты и бросали на раскалённое железо сушёную кукурузу, которую натаскали с поля ещё летом, вышелушили и запасливо припрятали под матрасами. Она выстреливала во все стороны, мы поднимали её с пола, ссорились, делились, потом счастливо хрустели ею, прижавшись друг к другу. В тот день дежурила добрая воспитательница.
Из приоткрытой дверцы плиты на пол выскользнул красный уголек. Один мальчик схватил его, подбросил на ладони и кинул в поддувало. Там ему место. Сделал он это небрежно. Мы гордились его смелостью. Он не позволял смотреть на его обожжённую ладошку. Гордый! Он уже большой, ему почти семь лет».