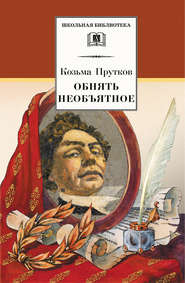По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Избранное
Козьма Прутков
Козьма Прутков – самый уникальный сатирик 19 века, насмехавшийся над нравами и устоями своей эпохи и раздававший запоминающиеся звонкие оплеухи общественному вкусу. Необычность Козьмы Пруткова проявилась не только в стиле и содержании его произведений. Этот выдающийся человек сам является одним из наиболее замечательных литературных вымыслов: его родословная, биография и творчество полностью придуманы несколькими оригинальными писателями – братьями Жемчужниковыми, Петром Ершовым и Алексеем Толстым.
Книга включает сборники «Досуги» и «Пух и перья», содержащие самые острые бессмертные афоризмы, общественно-политические проекты, пародийные стихотворения и басни Козьмы Пруткова.
Также в книгу вошли «Выдержки из записок моего деда» – анекдотические случаи и «гисторические материалы», доказывающие, что дед Козьмы Пруткова обладал не меньшими литературными дарованиями, чем его выдающийся внук, биографические сведения о личности и жизненных вехах Пруткова-младшего, краткий некролог на его смерть, а также уникальное посмертное произведение, продиктованное им во время спиритического сеанса.
Козьма Прутков
Избранное
Биографические сведения о Козьме Пруткове
Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 г.; скончался 13 января 1863 г.
В «Некрологе» и в других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта: во-первых, что он помечал все свои печатные прозаические статьи 11-м числом апреля или иного месяца; и во-вторых, что он писал свое имя: Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны; но первый из них истолковывался ошибочно. Полагали, будто он, помечая свои произведения 11-м числом, желал ознаменовать каждый раз день своего рождения; на самом же деле он ознаменовывал такою пометою не день рождения, а свое замечательное сновидение, вероятно только случайно совпавшее с днем его рождения и имевшее влияние на всю его жизнь. Содержание этого сновидения рассказано далее, со слов самого Козьмы Пруткова. Что же касается способа писания им своего имени, то в действительности он писался даже не «Козьма», но Косьма, как знаменитые его соименники: Косьма и Дамиан, Косьма Минин, Косьма Медичи и немногие подобные.
В 1820 г. он вступил в военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. В это время и привиделся ему вышеупомянутый сон. Именно: в ночь с 10 на 11 апреля 1823 г., возвратясь поздно домой с товарищеской попойки и едва прилегши на койку, он увидел перед собой голого бригадного генерала, в эполетах, который, подняв его с койки за руку и не дав ему одеться, повлек его молча по каким-то длинным и темным коридорам, на вершину высокой и остроконечной горы, и там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая их ему одну за другою и даже прикидывая некоторые из них к его продрогшему телу. Прутков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного события; но вдруг от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй он ощутил во всем теле сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно, какое значение придавал Козьма Петрович Прутков этому видению. Но, часто рассказывая о нем впоследствии, оп всегда приходил в большое волнение и заканчивал свой рассказ громким возгласом: «В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов, в Пробирную Палатку, где и останусь навсегда!»
Действительно, вступив в Пробирную Палатку в 1823 г., он оставался в ней до смерти, т. е. до 13 января 1863 года. Начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и наивысшую должность: директора Пробирной Палатки; а потом – и орден св. Станислава 1-й степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо».
Вообще он был очень доволен своею службою. Только в период подготовления реформ прошлого царствования он как бы растерялся. Сначала ему казалось, что из-под него уходит почва, и он стал роптать, повсюду крича о рановременности всяких реформ и о том, что он «враг всех так называемых вопросов!». Однако потом, когда неизбежность реформ сделалась несомненною, он сам старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты его браковали по их очевидной несостоятельности. Он объяснял это завистью, неуважением опыта и заслуг и стал впадать в уныние, даже приходил в отчаяние. В один из моментов такого мрачного отчаяния он написал мистерию: «Сродство мировых сил», впервые печатаемую в настоящем издании и вполне верно передающую тогдашнее болезненное состояние его духа[1 - В таком же состоянии духа он написал стихотворение «Перед морем житейским», тоже впервые печатаемое в настоящем издании]. Вскоре, однако, он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу, а под собою – прежнюю почву. Он снова стал писать проекты, но уже стеснительного направления, и они принимались с одобрением. Это дало ему основание возвратиться к прежнему самодовольству и ожидать значительного повышения по службе. Внезапный нервный удар, постигший его в директорском кабинете Пробирной Палатки, при самом отправлении службы, положил предел этим надеждам, прекратив его славные дни. В настоящем издании помещено в первый раз его «Предсмертное» стихотворение, недавно найденное в секретном деле Пробирной Палатки.
Но как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрел литературного своею деятельностью. Между тем он пробыл в государственной службе (считая гусарство) более сорока лет, а на литературном поприще действовал гласно только пять лет (в 1853 – 54 и в 1860-х годах).
До 1850 г., именно до случайного своего знакомства с небольшим кружком молодых людей, состоявшим из нескольких братьев Жемчужниковых и двоюродного их брата, графа Алексея Константиновича Толстого, – Козьма Петрович Прутков и не думал никогда ни о литературной, ни о какой-либо другой публичной деятельности. Он понимал себя только усердным чиновником Пробирной Палатки и далее служебных успехов не мечтал ни о чем. В 1850 г. граф А. К. Толстой и Алексей Михайлович Жемчужников, не предвидя серьезных последствий от своей затеи, вздумали уверить его, что видят в нем замечательные дарования драматического творчества. Он, поверив им, написал под их руководством комедию «Фантазия», которая была исполнена на сцене С. – Петербургского Александрийского театра, в высочайшем присутствии, 8 января 1851 г., в бенефис тогдашнего любимца публики, г. Максимова 1-го. В тот же вечер, однако, она была изъята из театрального репертуара, по особому повелению; это можно объяснить только своеобразностью сюжета и дурною игрою актеров.
Она впервые печатается лишь теперь.
Эта первая неудача не охладила начинавшего писателя ни к его новым приятелям, ни к литературному поприщу. Он, очевидно, стал уже верить в свои литературные дарования. Притом упомянутый Алексей Жемчужников и брат его Александр ободрили его, склонив заняться сочинением басен. Он тотчас же возревновал славе И. А. Крылова, тем более, что И. А. Крылов тоже состоял в государственной службе и тоже был кавалером ордена св. Станислава 1-й степени. В таком настроении он написал три басни! «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул» и «Цапля и беговые дрожки»; они были напечатаны в журн. «Современник» (1851 г., кн. XI, в «Заметках Нового Поэта») и очень понравились публике. Известный литератор Дружинин поместил о них весьма сочувственную статью, кажется, в журнале «Библиотека для чтения».
Делая эти первые шаги в литературе, Козьма Петрович Прутков не думал, однако, предаться ей. Он только подчинялся уговариваниям своих новых знакомых. Ему было приятно убеждаться в своих новых дарованиях, но он боялся и не желал прослыть литератором; поэтому он скрывал свое имя перед публикою.
Первое свое произведение, комедию «Фантазия», он выдал на афише за сочинение каких-то «Y и Z»; а свои первые три басни, названные выше, он отдал в печать без всякого имени. Так было до 1852 г.; но в этом году совершился в его личности коренной переворот под влиянием трех лиц из упомянутого кружка: графа А. К. Толстого, Алексея Жемчужникова и Владимира Жемчужникова. Эти три лица завладели им, взяли его под свою опеку и развили в нем те типические качества, которые сделали его известным под именем Козьмы Пруткова. Он стал самоуверен, самодоволен, резок; он начал обращаться к публике «как власть имеющий»; и в этом своем новом и окончательном образе он беседовал с публикою в течение пяти лет, в два приема, именно: в 1853 – 54 годах, помещая свои произведения в журн. «Современник», в отделе «Ералаш», под общим заглавием: «Досуги Козьмы Пруткова»; и в 1860 – 64 годах, печатаясь в том же журнале в отделе «Свисток», под общим заглавием «Пух и перья (Daunen und Federn)». Кроме того, в течение второго появления его перед публикою некоторые его произведения (см. об этом в первой выноске настоящего очерка) были напечатаны в журн. «Искра» и одно в журн. «Развлечение», 1861 г., N 18. Промежуточные шесть лет, между двумя появлениями Козьмы Пруткова в печати, были для него теми годами томительного смущения и отчаяния, о коих упомянуто выше.
В оба свои кратковременные явлений в печати Козьма Прутков оказался поразительно разнообразным, именно: и стихотворцем, и баснописцем, и историком (см. его «Выдержки из записок деда»), и философом (см. его «Плоды раздумья»), и драматическим писателем. А после его смерти обнаружилось, что в это же время он успевал писать правительственные проекты, как смелый и решительный администратор (см. его проект: «О введении единомыслия в России», напечатанный без этого заглавия, при его некрологе, в «Современнике», 1863 г., кн. IV). И во всех родах этой разносторонней деятельности он был одинаково резок, решителен, самоуверен. В этом отношении он был сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением препятствий. То было, как известно, время знаменитого учения: «усердие все превозмогает». Едва ли даже не Козьма Прутков первый формулировал это учение в означенной фразе, когда был еще в мелких чинах? По крайней мере, оно находится в его «Плодах раздумья» под N 84. Верный этому учению и возбужденный своими опекунами, Козьма Прутков не усомнился в том, что ему достаточно только приложить усердие, чтобы завладеть всеми знаниями и дарованиями. Спрашивается, однако: 1) чему же обязан Козьма Прутков тем, что, при таких невысоких его качествах, он столь быстро приобрел и доселе сохраняет за собою славу и сочувствие публики? и 2) чем руководились его опекуны, развив в нем эти качества?
Для разрешения этих важных вопросов необходимо вникнуть в сущность дела, «посмотреть в корень», по выражению Козьмы Пруткова; и тогда личность Козьмы Пруткова окажется столь же драматичною и загадочною, как личность Гамлета. Они обе не могут обойтись без комментариев, и обе внушают сочувствие к себе, хотя по различным причинам. Козьма Прутков был, очевидно, жертвою трех упомянутых лиц, сделавшихся произвольно его опекунами или клевретами. Они поступили с ним как «ложные друзья», выставляемые в трагедиях и драмах. Они, под личиною дружбы, развили в нем такие качества, которые желали осмеять публично. Под их влиянием он перенял от других людей, имевших успех: смелость, самодовольство, самоуверенность, даже наглость и стал считать каждую свою мысль, каждое свое писание и изречение – истиною, достойною оглашения. Он вдруг счел себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невежество, которые иначе остались бы неизвестными вне стен Пробирной Палатки. Из этого видно, впрочем, что его опекуны, или «ложные друзья», не придали ему никаких новых дурных качеств: они только ободрили его и тем самым они вызвали наружу такие его свойства, которые таились до случая. Ободренный своими клевретами, он уже сам стал требовать, чтобы его слушали; а когда его стали слушать, он выказал такое самоуверенное непонимание действительности, как будто над каждым его словом и произведением стоит ярлык; «все человеческое мне чуждо».
Самоуверенность, самодовольство и умственная ограниченность Козьмы Пруткова выразились особенно ярко в его «Плодах раздумья», т. е. в его «Мыслях и афоризмах». Обыкновенно форму афоризмов употребляют для передачи выводов житейской мудрости; но Козьма Прутков воспользовался ею иначе. Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью «казенные» пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие «мысли», которые не только не имеют соотношения с его временем и страною, но как бы находятся вне всякого времени и какой бы ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитое «Бди!» напоминает военную команду: «Пли!» Да и вообще Козьма Прутков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице: «смелость города берет», Козьма Прутков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости; не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения; полагая быть историком, он рассказывал анекдоты, не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей отечества, он сочинял для него проекты управления. – «Усердие все превозмогает!..»
Упомянутые трое опекунов Козьмы Пруткова заботливо развили в нем такие качества, при которых он оказывался вполне ненужным для своей страны; и, рядом с этим, они безжалостно обобрали у него все такие, которые могли бы сделать его хотя немного полезным. Присутствие первых и отсутствие вторых равно комичны, а как при этом в Козьме Пруткове сохранилось глубокое, прирожденное добродушие, делающее его невинным во всех выходках, то он оказался забавным и симпатичным. В этом и состоит драматичность его положения. Поэтому он и может быть справедливо назван жертвою своих опекунов: он бессознательно и против своего желания забавлял, служа их целям. Не будь этих опекунов, он едва ли решился бы, пока состоял только в должности директора Пробирной Палатки, так откровенно, самоуверенно и самодовольно разоблачиться перед публикою.
Но справедливо ли укорять опекунов Козьмы Пруткова за то, что они выставили его с забавной стороны? Ведь только через это они доставили ему славу и симпатию публики; а Козьма Прутков любил славу. Он даже печатно отвергал справедливость мнения, будто «слава – дым». Он печатно сознавался, что «хочет славы», что «слава тешит человека». Опекуны его угадали, что он никогда не поймет комичности своей славы и будет ребячески наслаждаться ею.
И он действительно наслаждался своею славою с увлечением, до самой своей смерти, всегда веря в необыкновенные и разнообразные свои дарования. Он был горд собою и счастлив: более этого не дали бы ему самые благонамеренные опекуны.
Слава Козьмы Пруткова установилась так быстро, что в первый же год своей гласной литературной деятельности (в 1853 г.) он уже занялся приготовлением отдельного издания своих сочинений с портретом. Для этого были тогда же приглашены им трое художников, которые нарисовали и перерисовали на камень его портрет, отпечатанный в том же 1853 году, в литографии Тюлина, в значительном количестве экземпляров[2 - Художники эти – тогдашние ученики Академии художеств, занимавшиеся и жившие вместе: Лев Михайлович Жемчужников, Александр Егорович Вейдеман и Лев Феликсович Лагорио. Подлинный их рисунок сохранился до сих пор у Л. М. Жемчужникова. Упоминаемая здесь литография Тюлина находилась в С.-Петербурге на Васильевском острову по 5-й линии, против Академии художеств]. Тогдашняя цензура почему-то не разрешила выпуска этого портрета; вследствие этого не состоялось и все издание. В следующем году оказалось, что все отпечатанные экземпляры портрета, кроме пяти, удержанных издателями тотчас по отпечатании, пропали, вместе с камнем, при перемене помещения литографии Тюлина в 1854 г. в новом помещении литографии. Впоследствии некоторые лица приобрели эти пропавшие экземпляры покупкой на Апраксином дворе; вот почему при настоящем издании приложена фотогиалотипная копия, в уменьшенном формате, с одного из уцелевших экземпляров того портрета, а не подлинные оттиски.
Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу; именно: искусно подвитые и всклоченные, каштановые, с проседью, волоса; две бородавочки: одна вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы; кусочек черного английского пластыря на шее, под правою скулой, на месте постоянных его бритвенных порезов; длинные, острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкою и длинною петлею; плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо; кисть левой руки, плотно обтянутая белою замшевого перчаткою особого покроя, выставленная из-под альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки (эти перстни были ему пожалованы при разных случаях).
Когда портрет Козьмы Пруткова был уже нарисован на камне, он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи.
Художники удовлетворили это его желание, насколько было возможно в оконченном уже портрете; но в уменьшенной копии с портрета, приложенной к настоящему изданию, эти поэтические лучи, к сожалению, едва заметны.
Козьма Прутков никогда не оставлял намерения издать отдельно свои сочинения. В 1860 г. он даже заявил печатно (в журн. «Современник», в выноске к стихотворению «Разочарование») о предстоящем выходе их в свет; но обстоятельства мешали исполнению этого его намерения до сих пор. Теперь оно осуществляется, между прочим, и для охранения типа и литературных прав Козьмы Пруткова, принадлежащих исключительно литературным его образователям, поименованным в настоящем очерке.
Ввиду являвшихся в печати ошибочных указаний на участие в деятельности Козьмы Пруткова разных других лиц, представляется нелишним повторить сведения о сотрудничестве их:
Во-первых: литературную личность Козьмы Пруткова создали и разработали три лица, именно: граф Алексей Константинович Толстой, Алексей Михайлович Жемчужников и Владимир Михайлович Жемчужников.
Во-вторых: сотрудничество в этом деле было оказано двумя лицами, в определенном здесь размере, именно:
1) Александром Михайловичем Жемчужниковым, принимавшим весьма значительное участие в сочинении не только трех басен: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул» и «Цапля и беговые дрожки», но также комедии «Блонды» и недоделанной комедии «Любовь и Силин» (см. о ней в начальной выноске), и
2) Петром Павловичем Ершовым, известным сочинителем сказки «Конек-горбунок», которым было доставлено несколько куплетов, помещенных во вторую картину оперетты: «Черепослов, сиречь Френолог»[3 - П. П. Ершов лично передал эти куплеты В. М. Жемчужникову в Тобольске, в 1854 г., заявив желание: «Пусть ими воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я уже ничего не пишу». Кстати заметить: в биографии П. П. Ершова, напечатанной г. Ярославцевым в 1872 г., на стр. 49 помещен отрывок из письма Ершова от 5 марта 1837 г., в котором он упоминает о «куплетцах» для водевиля «Черепослов», написанного приятелем его «Ч-жовым». Не эти ли «куплетцы» и были в 1854 г. переданы П. П. Ершовым? При них было и заглавие «Черепослов».].
И в-третьих: засим, никто – ни из редакторов и сотрудников журнала «Современник», ни из всех прочих русских писателей – не имел в авторстве Козьмы Пруткова ни малейшего участия.
13 января 1884 г.
«Досуги» и «Пух и перья»[4 - Заголовок «Досуги» и «Пух и перья» объединяет заглавия двух публикаций в 1854 («Литературный ералаш») и 1860 («Свисток»).]
Предисловие[5 - Впервые опубликовано в «Современнике», 1854, № 2.]
Читатель, вот мои «Досуги»… Суди беспристрастно! Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неконченного (d’inachevе). Издаю пока, отрывок. Ты спросишь: Зачем? Отвечаю: я хочу славы. – Слава тешит человека. Слава, говорят, «дым»; это неправда. Я этому не верю!
Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тож!.. Суди, говорю, сам. Да суди беспристрастно. Я ищу справедливости; снисхождения не надо, я не прошу снисхожденья!..
Читатель, до свидания! Коли эти сочинения понравятся, прочтешь и другие.
Запас у меня велик, материалов много; нужен только зодчий, нужен архитектор; я хороший архитектор!
Читатель прощай! Смотри же читай со вниманием, да не поминай лихом!
Твой доброжелатель – Козьма Прутков.
11 апреля 1853 г. (annus, i).
Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту[6 - Полное название – Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «С-Петербургских ведомостей» (1854 г.) по поводу статьи сего последнего, впервые – в «Современнике», 1854, № 6.]
Фельетонист, я пробежал твою статейку в № 80 «С.-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня! За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы.
Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда ты взял, будто я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису; ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь: подражание именно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли? – «подражание», а не пародию!.. Откуда же ты взял, будто я пишу пародии?!
В этом направлении написан мною и «Спор древних греческих философов об изящном». Как же ты, фельетонист, уверяешь, будто для него «нет образца в современной литературе»? Я, твердый в своем направлении, как кремень, не мог бы и написать этот «Спор», если бы не видел для него «образца в современной литературе»!.. Тебе показалась устарелою форма этого «Спора»; и тут не так! Форма самая обыкновенная, разговорная, драматическая, вполне соответствующая этому, истинно драматическому, моему созданию!.. Да и где ты видел, чтобы драматические произведения были написаны не в разговорной форме?!
Затем ты, подобно другим, приписываешь, кажется, моему перу и «Гномов» и прочие «Сцены из обыденной жизни»? О, это жестокая ошибка! Ты вчитайся в оглавление, вникни в мои произведения и тогда поймешь, как дважды два четыре: что в «Ералаши» мое и что не мое!..
Козьма Прутков
Козьма Прутков – самый уникальный сатирик 19 века, насмехавшийся над нравами и устоями своей эпохи и раздававший запоминающиеся звонкие оплеухи общественному вкусу. Необычность Козьмы Пруткова проявилась не только в стиле и содержании его произведений. Этот выдающийся человек сам является одним из наиболее замечательных литературных вымыслов: его родословная, биография и творчество полностью придуманы несколькими оригинальными писателями – братьями Жемчужниковыми, Петром Ершовым и Алексеем Толстым.
Книга включает сборники «Досуги» и «Пух и перья», содержащие самые острые бессмертные афоризмы, общественно-политические проекты, пародийные стихотворения и басни Козьмы Пруткова.
Также в книгу вошли «Выдержки из записок моего деда» – анекдотические случаи и «гисторические материалы», доказывающие, что дед Козьмы Пруткова обладал не меньшими литературными дарованиями, чем его выдающийся внук, биографические сведения о личности и жизненных вехах Пруткова-младшего, краткий некролог на его смерть, а также уникальное посмертное произведение, продиктованное им во время спиритического сеанса.
Козьма Прутков
Избранное
Биографические сведения о Козьме Пруткове
Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 г.; скончался 13 января 1863 г.
В «Некрологе» и в других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта: во-первых, что он помечал все свои печатные прозаические статьи 11-м числом апреля или иного месяца; и во-вторых, что он писал свое имя: Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны; но первый из них истолковывался ошибочно. Полагали, будто он, помечая свои произведения 11-м числом, желал ознаменовать каждый раз день своего рождения; на самом же деле он ознаменовывал такою пометою не день рождения, а свое замечательное сновидение, вероятно только случайно совпавшее с днем его рождения и имевшее влияние на всю его жизнь. Содержание этого сновидения рассказано далее, со слов самого Козьмы Пруткова. Что же касается способа писания им своего имени, то в действительности он писался даже не «Козьма», но Косьма, как знаменитые его соименники: Косьма и Дамиан, Косьма Минин, Косьма Медичи и немногие подобные.
В 1820 г. он вступил в военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. В это время и привиделся ему вышеупомянутый сон. Именно: в ночь с 10 на 11 апреля 1823 г., возвратясь поздно домой с товарищеской попойки и едва прилегши на койку, он увидел перед собой голого бригадного генерала, в эполетах, который, подняв его с койки за руку и не дав ему одеться, повлек его молча по каким-то длинным и темным коридорам, на вершину высокой и остроконечной горы, и там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая их ему одну за другою и даже прикидывая некоторые из них к его продрогшему телу. Прутков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного события; но вдруг от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй он ощутил во всем теле сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно, какое значение придавал Козьма Петрович Прутков этому видению. Но, часто рассказывая о нем впоследствии, оп всегда приходил в большое волнение и заканчивал свой рассказ громким возгласом: «В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов, в Пробирную Палатку, где и останусь навсегда!»
Действительно, вступив в Пробирную Палатку в 1823 г., он оставался в ней до смерти, т. е. до 13 января 1863 года. Начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и наивысшую должность: директора Пробирной Палатки; а потом – и орден св. Станислава 1-й степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо».
Вообще он был очень доволен своею службою. Только в период подготовления реформ прошлого царствования он как бы растерялся. Сначала ему казалось, что из-под него уходит почва, и он стал роптать, повсюду крича о рановременности всяких реформ и о том, что он «враг всех так называемых вопросов!». Однако потом, когда неизбежность реформ сделалась несомненною, он сам старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты его браковали по их очевидной несостоятельности. Он объяснял это завистью, неуважением опыта и заслуг и стал впадать в уныние, даже приходил в отчаяние. В один из моментов такого мрачного отчаяния он написал мистерию: «Сродство мировых сил», впервые печатаемую в настоящем издании и вполне верно передающую тогдашнее болезненное состояние его духа[1 - В таком же состоянии духа он написал стихотворение «Перед морем житейским», тоже впервые печатаемое в настоящем издании]. Вскоре, однако, он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу, а под собою – прежнюю почву. Он снова стал писать проекты, но уже стеснительного направления, и они принимались с одобрением. Это дало ему основание возвратиться к прежнему самодовольству и ожидать значительного повышения по службе. Внезапный нервный удар, постигший его в директорском кабинете Пробирной Палатки, при самом отправлении службы, положил предел этим надеждам, прекратив его славные дни. В настоящем издании помещено в первый раз его «Предсмертное» стихотворение, недавно найденное в секретном деле Пробирной Палатки.
Но как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрел литературного своею деятельностью. Между тем он пробыл в государственной службе (считая гусарство) более сорока лет, а на литературном поприще действовал гласно только пять лет (в 1853 – 54 и в 1860-х годах).
До 1850 г., именно до случайного своего знакомства с небольшим кружком молодых людей, состоявшим из нескольких братьев Жемчужниковых и двоюродного их брата, графа Алексея Константиновича Толстого, – Козьма Петрович Прутков и не думал никогда ни о литературной, ни о какой-либо другой публичной деятельности. Он понимал себя только усердным чиновником Пробирной Палатки и далее служебных успехов не мечтал ни о чем. В 1850 г. граф А. К. Толстой и Алексей Михайлович Жемчужников, не предвидя серьезных последствий от своей затеи, вздумали уверить его, что видят в нем замечательные дарования драматического творчества. Он, поверив им, написал под их руководством комедию «Фантазия», которая была исполнена на сцене С. – Петербургского Александрийского театра, в высочайшем присутствии, 8 января 1851 г., в бенефис тогдашнего любимца публики, г. Максимова 1-го. В тот же вечер, однако, она была изъята из театрального репертуара, по особому повелению; это можно объяснить только своеобразностью сюжета и дурною игрою актеров.
Она впервые печатается лишь теперь.
Эта первая неудача не охладила начинавшего писателя ни к его новым приятелям, ни к литературному поприщу. Он, очевидно, стал уже верить в свои литературные дарования. Притом упомянутый Алексей Жемчужников и брат его Александр ободрили его, склонив заняться сочинением басен. Он тотчас же возревновал славе И. А. Крылова, тем более, что И. А. Крылов тоже состоял в государственной службе и тоже был кавалером ордена св. Станислава 1-й степени. В таком настроении он написал три басни! «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул» и «Цапля и беговые дрожки»; они были напечатаны в журн. «Современник» (1851 г., кн. XI, в «Заметках Нового Поэта») и очень понравились публике. Известный литератор Дружинин поместил о них весьма сочувственную статью, кажется, в журнале «Библиотека для чтения».
Делая эти первые шаги в литературе, Козьма Петрович Прутков не думал, однако, предаться ей. Он только подчинялся уговариваниям своих новых знакомых. Ему было приятно убеждаться в своих новых дарованиях, но он боялся и не желал прослыть литератором; поэтому он скрывал свое имя перед публикою.
Первое свое произведение, комедию «Фантазия», он выдал на афише за сочинение каких-то «Y и Z»; а свои первые три басни, названные выше, он отдал в печать без всякого имени. Так было до 1852 г.; но в этом году совершился в его личности коренной переворот под влиянием трех лиц из упомянутого кружка: графа А. К. Толстого, Алексея Жемчужникова и Владимира Жемчужникова. Эти три лица завладели им, взяли его под свою опеку и развили в нем те типические качества, которые сделали его известным под именем Козьмы Пруткова. Он стал самоуверен, самодоволен, резок; он начал обращаться к публике «как власть имеющий»; и в этом своем новом и окончательном образе он беседовал с публикою в течение пяти лет, в два приема, именно: в 1853 – 54 годах, помещая свои произведения в журн. «Современник», в отделе «Ералаш», под общим заглавием: «Досуги Козьмы Пруткова»; и в 1860 – 64 годах, печатаясь в том же журнале в отделе «Свисток», под общим заглавием «Пух и перья (Daunen und Federn)». Кроме того, в течение второго появления его перед публикою некоторые его произведения (см. об этом в первой выноске настоящего очерка) были напечатаны в журн. «Искра» и одно в журн. «Развлечение», 1861 г., N 18. Промежуточные шесть лет, между двумя появлениями Козьмы Пруткова в печати, были для него теми годами томительного смущения и отчаяния, о коих упомянуто выше.
В оба свои кратковременные явлений в печати Козьма Прутков оказался поразительно разнообразным, именно: и стихотворцем, и баснописцем, и историком (см. его «Выдержки из записок деда»), и философом (см. его «Плоды раздумья»), и драматическим писателем. А после его смерти обнаружилось, что в это же время он успевал писать правительственные проекты, как смелый и решительный администратор (см. его проект: «О введении единомыслия в России», напечатанный без этого заглавия, при его некрологе, в «Современнике», 1863 г., кн. IV). И во всех родах этой разносторонней деятельности он был одинаково резок, решителен, самоуверен. В этом отношении он был сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением препятствий. То было, как известно, время знаменитого учения: «усердие все превозмогает». Едва ли даже не Козьма Прутков первый формулировал это учение в означенной фразе, когда был еще в мелких чинах? По крайней мере, оно находится в его «Плодах раздумья» под N 84. Верный этому учению и возбужденный своими опекунами, Козьма Прутков не усомнился в том, что ему достаточно только приложить усердие, чтобы завладеть всеми знаниями и дарованиями. Спрашивается, однако: 1) чему же обязан Козьма Прутков тем, что, при таких невысоких его качествах, он столь быстро приобрел и доселе сохраняет за собою славу и сочувствие публики? и 2) чем руководились его опекуны, развив в нем эти качества?
Для разрешения этих важных вопросов необходимо вникнуть в сущность дела, «посмотреть в корень», по выражению Козьмы Пруткова; и тогда личность Козьмы Пруткова окажется столь же драматичною и загадочною, как личность Гамлета. Они обе не могут обойтись без комментариев, и обе внушают сочувствие к себе, хотя по различным причинам. Козьма Прутков был, очевидно, жертвою трех упомянутых лиц, сделавшихся произвольно его опекунами или клевретами. Они поступили с ним как «ложные друзья», выставляемые в трагедиях и драмах. Они, под личиною дружбы, развили в нем такие качества, которые желали осмеять публично. Под их влиянием он перенял от других людей, имевших успех: смелость, самодовольство, самоуверенность, даже наглость и стал считать каждую свою мысль, каждое свое писание и изречение – истиною, достойною оглашения. Он вдруг счел себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невежество, которые иначе остались бы неизвестными вне стен Пробирной Палатки. Из этого видно, впрочем, что его опекуны, или «ложные друзья», не придали ему никаких новых дурных качеств: они только ободрили его и тем самым они вызвали наружу такие его свойства, которые таились до случая. Ободренный своими клевретами, он уже сам стал требовать, чтобы его слушали; а когда его стали слушать, он выказал такое самоуверенное непонимание действительности, как будто над каждым его словом и произведением стоит ярлык; «все человеческое мне чуждо».
Самоуверенность, самодовольство и умственная ограниченность Козьмы Пруткова выразились особенно ярко в его «Плодах раздумья», т. е. в его «Мыслях и афоризмах». Обыкновенно форму афоризмов употребляют для передачи выводов житейской мудрости; но Козьма Прутков воспользовался ею иначе. Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью «казенные» пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие «мысли», которые не только не имеют соотношения с его временем и страною, но как бы находятся вне всякого времени и какой бы ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитое «Бди!» напоминает военную команду: «Пли!» Да и вообще Козьма Прутков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице: «смелость города берет», Козьма Прутков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости; не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения; полагая быть историком, он рассказывал анекдоты, не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей отечества, он сочинял для него проекты управления. – «Усердие все превозмогает!..»
Упомянутые трое опекунов Козьмы Пруткова заботливо развили в нем такие качества, при которых он оказывался вполне ненужным для своей страны; и, рядом с этим, они безжалостно обобрали у него все такие, которые могли бы сделать его хотя немного полезным. Присутствие первых и отсутствие вторых равно комичны, а как при этом в Козьме Пруткове сохранилось глубокое, прирожденное добродушие, делающее его невинным во всех выходках, то он оказался забавным и симпатичным. В этом и состоит драматичность его положения. Поэтому он и может быть справедливо назван жертвою своих опекунов: он бессознательно и против своего желания забавлял, служа их целям. Не будь этих опекунов, он едва ли решился бы, пока состоял только в должности директора Пробирной Палатки, так откровенно, самоуверенно и самодовольно разоблачиться перед публикою.
Но справедливо ли укорять опекунов Козьмы Пруткова за то, что они выставили его с забавной стороны? Ведь только через это они доставили ему славу и симпатию публики; а Козьма Прутков любил славу. Он даже печатно отвергал справедливость мнения, будто «слава – дым». Он печатно сознавался, что «хочет славы», что «слава тешит человека». Опекуны его угадали, что он никогда не поймет комичности своей славы и будет ребячески наслаждаться ею.
И он действительно наслаждался своею славою с увлечением, до самой своей смерти, всегда веря в необыкновенные и разнообразные свои дарования. Он был горд собою и счастлив: более этого не дали бы ему самые благонамеренные опекуны.
Слава Козьмы Пруткова установилась так быстро, что в первый же год своей гласной литературной деятельности (в 1853 г.) он уже занялся приготовлением отдельного издания своих сочинений с портретом. Для этого были тогда же приглашены им трое художников, которые нарисовали и перерисовали на камень его портрет, отпечатанный в том же 1853 году, в литографии Тюлина, в значительном количестве экземпляров[2 - Художники эти – тогдашние ученики Академии художеств, занимавшиеся и жившие вместе: Лев Михайлович Жемчужников, Александр Егорович Вейдеман и Лев Феликсович Лагорио. Подлинный их рисунок сохранился до сих пор у Л. М. Жемчужникова. Упоминаемая здесь литография Тюлина находилась в С.-Петербурге на Васильевском острову по 5-й линии, против Академии художеств]. Тогдашняя цензура почему-то не разрешила выпуска этого портрета; вследствие этого не состоялось и все издание. В следующем году оказалось, что все отпечатанные экземпляры портрета, кроме пяти, удержанных издателями тотчас по отпечатании, пропали, вместе с камнем, при перемене помещения литографии Тюлина в 1854 г. в новом помещении литографии. Впоследствии некоторые лица приобрели эти пропавшие экземпляры покупкой на Апраксином дворе; вот почему при настоящем издании приложена фотогиалотипная копия, в уменьшенном формате, с одного из уцелевших экземпляров того портрета, а не подлинные оттиски.
Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу; именно: искусно подвитые и всклоченные, каштановые, с проседью, волоса; две бородавочки: одна вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы; кусочек черного английского пластыря на шее, под правою скулой, на месте постоянных его бритвенных порезов; длинные, острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкою и длинною петлею; плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо; кисть левой руки, плотно обтянутая белою замшевого перчаткою особого покроя, выставленная из-под альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки (эти перстни были ему пожалованы при разных случаях).
Когда портрет Козьмы Пруткова был уже нарисован на камне, он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи.
Художники удовлетворили это его желание, насколько было возможно в оконченном уже портрете; но в уменьшенной копии с портрета, приложенной к настоящему изданию, эти поэтические лучи, к сожалению, едва заметны.
Козьма Прутков никогда не оставлял намерения издать отдельно свои сочинения. В 1860 г. он даже заявил печатно (в журн. «Современник», в выноске к стихотворению «Разочарование») о предстоящем выходе их в свет; но обстоятельства мешали исполнению этого его намерения до сих пор. Теперь оно осуществляется, между прочим, и для охранения типа и литературных прав Козьмы Пруткова, принадлежащих исключительно литературным его образователям, поименованным в настоящем очерке.
Ввиду являвшихся в печати ошибочных указаний на участие в деятельности Козьмы Пруткова разных других лиц, представляется нелишним повторить сведения о сотрудничестве их:
Во-первых: литературную личность Козьмы Пруткова создали и разработали три лица, именно: граф Алексей Константинович Толстой, Алексей Михайлович Жемчужников и Владимир Михайлович Жемчужников.
Во-вторых: сотрудничество в этом деле было оказано двумя лицами, в определенном здесь размере, именно:
1) Александром Михайловичем Жемчужниковым, принимавшим весьма значительное участие в сочинении не только трех басен: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул» и «Цапля и беговые дрожки», но также комедии «Блонды» и недоделанной комедии «Любовь и Силин» (см. о ней в начальной выноске), и
2) Петром Павловичем Ершовым, известным сочинителем сказки «Конек-горбунок», которым было доставлено несколько куплетов, помещенных во вторую картину оперетты: «Черепослов, сиречь Френолог»[3 - П. П. Ершов лично передал эти куплеты В. М. Жемчужникову в Тобольске, в 1854 г., заявив желание: «Пусть ими воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я уже ничего не пишу». Кстати заметить: в биографии П. П. Ершова, напечатанной г. Ярославцевым в 1872 г., на стр. 49 помещен отрывок из письма Ершова от 5 марта 1837 г., в котором он упоминает о «куплетцах» для водевиля «Черепослов», написанного приятелем его «Ч-жовым». Не эти ли «куплетцы» и были в 1854 г. переданы П. П. Ершовым? При них было и заглавие «Черепослов».].
И в-третьих: засим, никто – ни из редакторов и сотрудников журнала «Современник», ни из всех прочих русских писателей – не имел в авторстве Козьмы Пруткова ни малейшего участия.
13 января 1884 г.
«Досуги» и «Пух и перья»[4 - Заголовок «Досуги» и «Пух и перья» объединяет заглавия двух публикаций в 1854 («Литературный ералаш») и 1860 («Свисток»).]
Предисловие[5 - Впервые опубликовано в «Современнике», 1854, № 2.]
Читатель, вот мои «Досуги»… Суди беспристрастно! Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неконченного (d’inachevе). Издаю пока, отрывок. Ты спросишь: Зачем? Отвечаю: я хочу славы. – Слава тешит человека. Слава, говорят, «дым»; это неправда. Я этому не верю!
Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тож!.. Суди, говорю, сам. Да суди беспристрастно. Я ищу справедливости; снисхождения не надо, я не прошу снисхожденья!..
Читатель, до свидания! Коли эти сочинения понравятся, прочтешь и другие.
Запас у меня велик, материалов много; нужен только зодчий, нужен архитектор; я хороший архитектор!
Читатель прощай! Смотри же читай со вниманием, да не поминай лихом!
Твой доброжелатель – Козьма Прутков.
11 апреля 1853 г. (annus, i).
Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту[6 - Полное название – Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «С-Петербургских ведомостей» (1854 г.) по поводу статьи сего последнего, впервые – в «Современнике», 1854, № 6.]
Фельетонист, я пробежал твою статейку в № 80 «С.-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня! За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы.
Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда ты взял, будто я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису; ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь: подражание именно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли? – «подражание», а не пародию!.. Откуда же ты взял, будто я пишу пародии?!
В этом направлении написан мною и «Спор древних греческих философов об изящном». Как же ты, фельетонист, уверяешь, будто для него «нет образца в современной литературе»? Я, твердый в своем направлении, как кремень, не мог бы и написать этот «Спор», если бы не видел для него «образца в современной литературе»!.. Тебе показалась устарелою форма этого «Спора»; и тут не так! Форма самая обыкновенная, разговорная, драматическая, вполне соответствующая этому, истинно драматическому, моему созданию!.. Да и где ты видел, чтобы драматические произведения были написаны не в разговорной форме?!
Затем ты, подобно другим, приписываешь, кажется, моему перу и «Гномов» и прочие «Сцены из обыденной жизни»? О, это жестокая ошибка! Ты вчитайся в оглавление, вникни в мои произведения и тогда поймешь, как дважды два четыре: что в «Ералаши» мое и что не мое!..