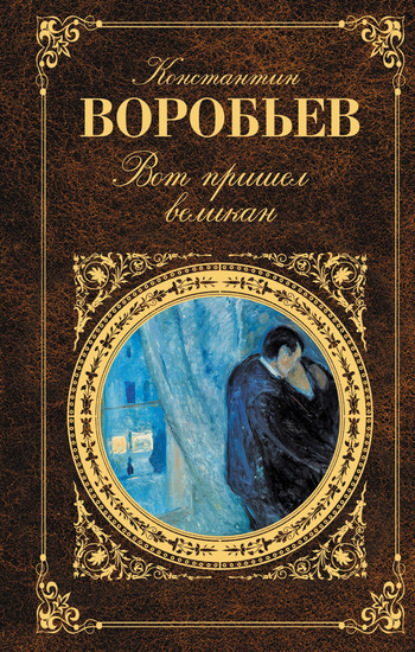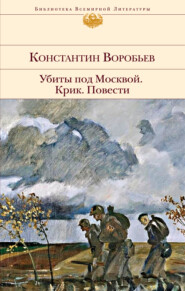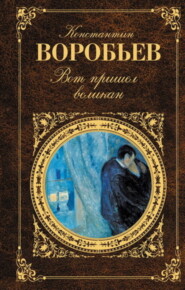По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вот пришел великан (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:
– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и…
Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям…
Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.
И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках…
Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть… от грозы, например. Или во время войны… Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом… Он же как на ладони тут!..
Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:
– Голову за пазуху не сховаешь!
Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне – худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.
– Ну? Схомячился? Давай побалакаем!..
Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.
– Платят они, что ли, тебе за брехню? – спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную муть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, – я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног.
Из реки меня выловили под Черным логом бабы – белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук снопы тресты. Они зацепились за прибрежный ракитник и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царапина – проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон… Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, – видел член сельсовета Яшка Кочанок, – и ножик потерял… Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Ракитное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:
– Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?
Память о стишке, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» ответа, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:
– Нож… Ножиком!
– Ну, будет, будет! – сказал председатель. – Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы – и все. А теперь вот…
Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером…
Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зеленя. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон, и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь – муругую, статную и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцуя на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины – пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок – сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах, проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высовывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», – подумал я и вылез из машины, но ракитянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролег след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребячьей селезенки…
Крылья ветряка надо было остановить вертикально или горизонтально, а не так, как они простерлись теперь: наискось по срубу. В этом их положении скрывалось что-то беспокойное и ненужное людям, будто они нет-нет да и «оживают» и вертятся одни, без мирошника.
Ненужное людям… Если бы на свете существовало только то, что им нужно. Кому нужно было то, что случилось тогда? Советской власти? Дяде Мирону? Мне? А вот случилось же!..
Первую ночь в больнице я просидел в коридоре. «Доктора нетути и местов тоже», – сказал сторож. Он лежал на двух составленных скамейках, и на его ногах, протянутых к открытому жерлу печки, вонюче испарялись мокрые валенки. Меня бил озноб и чох, а сторож каждый раз протяжно и блаженно приговаривал:
– Будь здоро-ов, Иван Петро-ов!
А в следующий раз:
– Корову веде-ешь!
И потом:
– Здорово живе-ешь!
Утром коридор до отказа заполнился больным людом из деревень района. Мне хотелось есть и спать, и я дремал в углу, сидя на корточках. Там и нашел меня перепуганный чем-то старичок доктор, закутанный в халат из суровой холстины.
– Ты, случайно, не Кузьма Останков? – свистящим шепотом спросил он, наклонясь ко мне.
– Кузьма, – так же шепотом ответил я.
– Из Ракитного? Что ж ты, голубчик! Тебя ищут, а ты…
Он взял меня за руку, и я ощутил дрожь и липкую влажность его холодных пальцев. Через расступившуюся толпу больных мы прошли в приемную комнату. У окна спиной к нам стоял кто-то в длинном кожаном пальто, а за столом сидел маленький румяно-красивый человек в волчьей дохе и фуражке.
– Так что ж вы морочите нам голову?! – тоненько крикнул он, мученически глядя под ноги доктору. – Я же сам распорядился отправить его сюда! Вчера днем распорядился!
– Видите ли, товарищ Косьянкин, – жалующе заговорил доктор, все еще не выпуская моей руки, – я, как изволите знать, один тут…
– Ничего мы не изволим знать! Давайте быстрее заключение!
Это сказал не Косьянкин, а тот, который стоял у окна. Доктор приказал мне раздеться и холодными пальцами начал крепко и гулко постукивать по моим ребрам.
– Это вы после, – капризно сказал Косьянкин. – Исследуйте сначала рану.
– Рану? – спросил доктор. – Где?
– На шее, – сказал тот, что был в кожанке.
– Ах, вот это? – доктор погладил ладонью мою царапину, и она зачесалась, но больно мне не было. – Это не опасно. До свадьбы заживет, – сказал он мне и улыбнулся.
– Как называется такая рана по-медицински? – нетерпеливо-обиженно спросил Косьянкин.
– Ну… линейная, если хотите… резаная, – пробормотал доктор. Тогда тот, который был в кожаном пальто, сказал: «Яс-сно», а Косьянкин страдальческим голосом, будто это не меня, а его оцарапало льдиной, распорядился «обеспечить» за мной в больнице «большевистский уход». Ни Косьянкин, ни человек в кожанке ни разу не взглянули мне в лицо, и я чувствовал себя виноватым перед ними.
Потом недели две я жил как во сне. Я все-таки подхватил в речке воспаление легких, и все, что в бреду и наяву виделось мне, походило на длинный немой кинофильм, героем которого был я, Кузьма Останков. Я словно сидел на огромном возу сена. Я не знал, кто им правит и куда мы едем, но ехать хотелось, потому что мне было отрадно и гордо, как никогда не бывало до этого: почти каждый день меня в больнице навещали медведовские комсомольцы и пионеры с барабанами и горнами. Они выстраивались в коридоре и через открытую дверь салютовали мне молча и завистливо. Конечно же я догадывался, за что они меня полюбили, – за дядю Мирона, за то, что я написал, как он поймался с мешком муки. И еще за то, что я чуть не утонул…
Выздоровел я сразу, в один день. Это было в воскресенье. Доктор тогда пришел позже обычного.
– Ну? Как дела? – спросил он, присаживаясь ко мне на койку.
– Ничего, – сказал я.
– Язык!
Я высунул язык.
– Хоро-ош!.. – басом сказал доктор. – И тут ты хорош. Не видел еще?
Он вынул из кармана халата вчетверо сложенную несвежую газету, развернул ее и протянул мне. То была наша медведовская «Колхозная жизнь». Я увидел в ней свой снимок, и во рту у меня стало прохладно и сладко, как от мятной конфеты. Под снимком через весь газетный лист тянулась черная строчка из огромных букв, и я никак не мог прочесть ее, потому что буквы плясали, пропадали и вновь возникали перед моими ликующими глазами.
– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и…
Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям…
Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.
И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках…
Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть… от грозы, например. Или во время войны… Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом… Он же как на ладони тут!..
Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:
– Голову за пазуху не сховаешь!
Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне – худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.
– Ну? Схомячился? Давай побалакаем!..
Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.
– Платят они, что ли, тебе за брехню? – спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную муть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, – я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног.
Из реки меня выловили под Черным логом бабы – белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук снопы тресты. Они зацепились за прибрежный ракитник и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царапина – проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон… Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, – видел член сельсовета Яшка Кочанок, – и ножик потерял… Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Ракитное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:
– Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?
Память о стишке, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» ответа, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:
– Нож… Ножиком!
– Ну, будет, будет! – сказал председатель. – Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы – и все. А теперь вот…
Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером…
Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зеленя. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон, и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь – муругую, статную и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцуя на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины – пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок – сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах, проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высовывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», – подумал я и вылез из машины, но ракитянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролег след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребячьей селезенки…
Крылья ветряка надо было остановить вертикально или горизонтально, а не так, как они простерлись теперь: наискось по срубу. В этом их положении скрывалось что-то беспокойное и ненужное людям, будто они нет-нет да и «оживают» и вертятся одни, без мирошника.
Ненужное людям… Если бы на свете существовало только то, что им нужно. Кому нужно было то, что случилось тогда? Советской власти? Дяде Мирону? Мне? А вот случилось же!..
Первую ночь в больнице я просидел в коридоре. «Доктора нетути и местов тоже», – сказал сторож. Он лежал на двух составленных скамейках, и на его ногах, протянутых к открытому жерлу печки, вонюче испарялись мокрые валенки. Меня бил озноб и чох, а сторож каждый раз протяжно и блаженно приговаривал:
– Будь здоро-ов, Иван Петро-ов!
А в следующий раз:
– Корову веде-ешь!
И потом:
– Здорово живе-ешь!
Утром коридор до отказа заполнился больным людом из деревень района. Мне хотелось есть и спать, и я дремал в углу, сидя на корточках. Там и нашел меня перепуганный чем-то старичок доктор, закутанный в халат из суровой холстины.
– Ты, случайно, не Кузьма Останков? – свистящим шепотом спросил он, наклонясь ко мне.
– Кузьма, – так же шепотом ответил я.
– Из Ракитного? Что ж ты, голубчик! Тебя ищут, а ты…
Он взял меня за руку, и я ощутил дрожь и липкую влажность его холодных пальцев. Через расступившуюся толпу больных мы прошли в приемную комнату. У окна спиной к нам стоял кто-то в длинном кожаном пальто, а за столом сидел маленький румяно-красивый человек в волчьей дохе и фуражке.
– Так что ж вы морочите нам голову?! – тоненько крикнул он, мученически глядя под ноги доктору. – Я же сам распорядился отправить его сюда! Вчера днем распорядился!
– Видите ли, товарищ Косьянкин, – жалующе заговорил доктор, все еще не выпуская моей руки, – я, как изволите знать, один тут…
– Ничего мы не изволим знать! Давайте быстрее заключение!
Это сказал не Косьянкин, а тот, который стоял у окна. Доктор приказал мне раздеться и холодными пальцами начал крепко и гулко постукивать по моим ребрам.
– Это вы после, – капризно сказал Косьянкин. – Исследуйте сначала рану.
– Рану? – спросил доктор. – Где?
– На шее, – сказал тот, что был в кожанке.
– Ах, вот это? – доктор погладил ладонью мою царапину, и она зачесалась, но больно мне не было. – Это не опасно. До свадьбы заживет, – сказал он мне и улыбнулся.
– Как называется такая рана по-медицински? – нетерпеливо-обиженно спросил Косьянкин.
– Ну… линейная, если хотите… резаная, – пробормотал доктор. Тогда тот, который был в кожаном пальто, сказал: «Яс-сно», а Косьянкин страдальческим голосом, будто это не меня, а его оцарапало льдиной, распорядился «обеспечить» за мной в больнице «большевистский уход». Ни Косьянкин, ни человек в кожанке ни разу не взглянули мне в лицо, и я чувствовал себя виноватым перед ними.
Потом недели две я жил как во сне. Я все-таки подхватил в речке воспаление легких, и все, что в бреду и наяву виделось мне, походило на длинный немой кинофильм, героем которого был я, Кузьма Останков. Я словно сидел на огромном возу сена. Я не знал, кто им правит и куда мы едем, но ехать хотелось, потому что мне было отрадно и гордо, как никогда не бывало до этого: почти каждый день меня в больнице навещали медведовские комсомольцы и пионеры с барабанами и горнами. Они выстраивались в коридоре и через открытую дверь салютовали мне молча и завистливо. Конечно же я догадывался, за что они меня полюбили, – за дядю Мирона, за то, что я написал, как он поймался с мешком муки. И еще за то, что я чуть не утонул…
Выздоровел я сразу, в один день. Это было в воскресенье. Доктор тогда пришел позже обычного.
– Ну? Как дела? – спросил он, присаживаясь ко мне на койку.
– Ничего, – сказал я.
– Язык!
Я высунул язык.
– Хоро-ош!.. – басом сказал доктор. – И тут ты хорош. Не видел еще?
Он вынул из кармана халата вчетверо сложенную несвежую газету, развернул ее и протянул мне. То была наша медведовская «Колхозная жизнь». Я увидел в ней свой снимок, и во рту у меня стало прохладно и сладко, как от мятной конфеты. Под снимком через весь газетный лист тянулась черная строчка из огромных букв, и я никак не мог прочесть ее, потому что буквы плясали, пропадали и вновь возникали перед моими ликующими глазами.