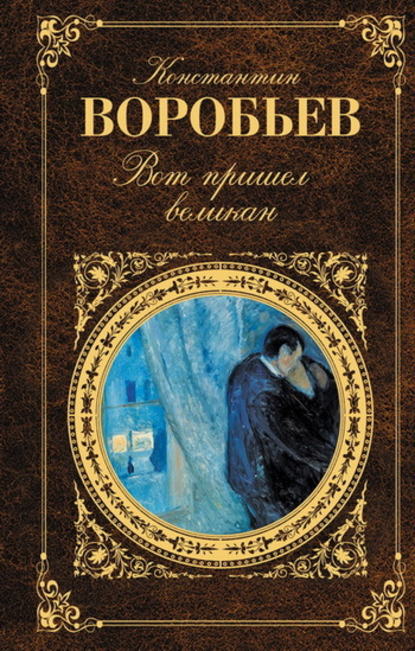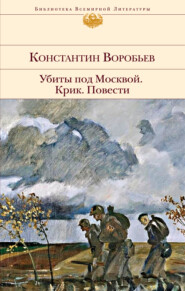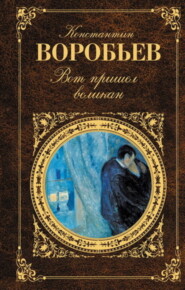По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Почем в Ракитном радости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почем в Ракитном радости
Константин Дмитриевич Воробьев
К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.
Константин Дмитриевич Воробьев
Почем в Ракитном радости
Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смирного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву…
Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.
Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.
– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?
Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.
– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.
– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор…
Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.
Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:
– В тридцать седьмом году в вашем дворе я… украл петуха. Красный такой… Случайно не знаете, чей он был?
Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:
– Да это небось дядин Васин… Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное… А вы что ж, с нужды али так на что… взяли-то?
Я объяснил.
– А кочеток ничего себе был? Справный?
– По-моему, ничего… Веселый такой, – сказал я.
– Дядин Васин. Один он держал тут… А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж…
Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.
– Я думал… может, заплатить кому-нибудь… или вообще как-то уладить все, – сказал я.
– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги… заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..
Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасливо – как бы нас не услыхали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.
У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:
– Не стыдись. Мы люди свои… Садись и поезжай куда тебе надо!..
Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.
Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:
Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту…
Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.
Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?… В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:
– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»
Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжко-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой…»
Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскулья…» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилищем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой поддерживая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.
– Ну? Когда теперь получишь?
Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилище терял веру в меня.
– Теперь уже скоро, – обещал я.
– А какую? Красненькую?
Вслед за этим наступала минута немого ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.
В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:
– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..
Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее…
«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»…
На третий день я поехал в Ракитное.
…Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.
Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки… Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его…
Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни…
Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.
Константин Дмитриевич Воробьев
К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.
Константин Дмитриевич Воробьев
Почем в Ракитном радости
Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смирного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву…
Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.
Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.
– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?
Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.
– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.
– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор…
Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.
Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:
– В тридцать седьмом году в вашем дворе я… украл петуха. Красный такой… Случайно не знаете, чей он был?
Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:
– Да это небось дядин Васин… Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное… А вы что ж, с нужды али так на что… взяли-то?
Я объяснил.
– А кочеток ничего себе был? Справный?
– По-моему, ничего… Веселый такой, – сказал я.
– Дядин Васин. Один он держал тут… А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж…
Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.
– Я думал… может, заплатить кому-нибудь… или вообще как-то уладить все, – сказал я.
– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги… заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..
Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасливо – как бы нас не услыхали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.
У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:
– Не стыдись. Мы люди свои… Садись и поезжай куда тебе надо!..
Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.
Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:
Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту…
Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.
Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?… В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:
– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»
Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжко-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой…»
Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскулья…» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилищем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой поддерживая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.
– Ну? Когда теперь получишь?
Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилище терял веру в меня.
– Теперь уже скоро, – обещал я.
– А какую? Красненькую?
Вслед за этим наступала минута немого ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.
В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:
– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..
Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее…
«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»…
На третий день я поехал в Ракитное.
…Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.
Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки… Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его…
Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни…
Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.