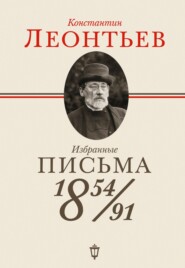По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сутки в ауле Биюк-Дортэ
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Константин Николаевич Леонтьев
«…Слух о тяжкой битве при Альме окончательно и искренно потряс его (читатель, конечно, убедился, что Муратов хороший человек). Тогда ни слезы милой Лизы, которая обнимала его и цаловала его руки, умоляя остаться, ни прелесть чувственной привычки к губам ее, плечам, рукам, одежде – словом, ко всему, еще так недавно чуждому и полному обаяния недоступности (женаты они были всего полтора года!), ни агрономия, ни оранжереи, ни диван – ничто не могло удержать его.
И вот он ополченец!..»
Константин Леонтьев
Сутки в ауле Биюк-Дортэ
До названия, впрочем, нам нет особенной нужды. Быть может, деревенька называлась как-нибудь иначе – Кучук-Кой, или Кипчак-Элли; нужно нам знать только, что стояла она у подножья большого голого холма, какие часто попадаются в волнообразных частях крымской степи, что домиков мазаных было в ней, я думаю, до сорока, если не больше, с черепичными и земляными, поросшими лебедой кровлями, что не было никакой сильной растительности кругом, кроме полудесятка широких ветл на берегу ручья, бежавшего по грязному оврагу, да огромных колючих волчцов с пушистыми розовыми головками, покрывавшими печальную окрестность аула на целые десятины. Не мешает знать также, что была бедная, небольшая, восьмиугольная мечеть с окнами, заваленными камнем, с запертою дверью; минарета у нее не было никакого, а была круглая груда из больших каменных плит, на которую аккуратно, в известные часы, лазил мулла с седой расщепленной бородой, в бараньей шапке, увенчанной белым полотенцем; кругом мечети было, как и у нас около церквей, кладбище, только очень унылое… трава на нем мелкая, подстриженная какая-то, и по зелени ее рассыпаны были лежа, стоймя, вдоль и поперек, безобразные белые камни, пожелтелые от наросших на них лишаев, так что издали было видно. Только избранник-хаджи (бывший в Мекке) украсил свой покривившийся каменный столбик грубым подобием чалмы и непонятными для нас надписями – вот и все… да, почти все. Надо бы сказать что-нибудь о татарах, жителях аула; но к той поре, как пришлось проходить чрез него ополченцам, их почти всех повыгнали. Офицеры и другие власти заняли большую часть хат; в других помещались больные разных команд, составляя массой своей деревенское госпитальное отделение, о котором своим порядком писались отчеты и т. п. – так что, кроме атамана да еще трех-четырех татарских семейств, мусульман не было: видно, разъехались на волах и верблюдах по родственникам в другие дальние деревни и увезли с собою марушек своих, детей, сундуки, своеобразную посуду, войлоки и даже те разноцветные длинные подушки, которые они любят класть у очага на полу и на которых они так долго и спокойно кейфовали с коротенькими чубучками в лениво разинутых ртах! Зато войско, войско сверкало везде!
Чего тут не было! И гарнизонный полубатальон, и артиллерийский парк, и госпитальное отделение с двумя докторами и смотрителем, и склады какие-то и при них провиантский офицер из греков. Гусары и казаки приезжали покупать сено. Какой-то делец перебрался сюда из дальнего города для продажи скупленных им стогов; у него была прекрасная карета, рояль в хате, два прикащика и пять породистых собак. Движение было везде видно с утра. Лекаря с разных концов спешили на помощь больным солдатам, размещенным в трех палатках и двух татарских домах. Солдаты, балагуря, толпились кучами, всякий с своими, около костров или печек, вырытых в боках холма; горнисты и барабанщики учились, трубя и барабаня с ранних часов, когда еще вся деревушка была одета туманом… Ночи наступали свежие, хотя дело было еще в августе. Однажды, часов в девять вечера, вступили в Биюк-Дортэ густыми колоннами ополченцы. Люди других команд, кто был свободен, бежали смотреть. Скомандовав вольно своим взводам, офицеры составили кружок и беседовали, пока дружина шумно собиралась варить себе ужин.
– Эй, Никитка! – закричал один дородный поручик. – подай-ка балыку сюда, да сыру… ковер возьми с повозки, расстели вот тут… Да и водки не забудь.
– Ишь, – заметил другой, – водку на самый конец… А она у него первая на уме… Вот что значит нечистая совесть… Погоди – вот я жене сообщу по почте о твоем поведении: будет тебе в Ефремовке, как вернемся!
– Ах, полно, ради Христа, говорить про жену! – вздохнувши, сказал толстяк. – Тебе, конечно, смешно, а я о сю пору в себя не приду, на чьих руках она останется… Если, чего Боже упаси!.. Ведь здесь не Ефремовка!.. Знаешь, неприятель не за горами.
– Вот что правда, то правда: это не Ефремовка ваша, Осип Григорьич! – воскликнул, пожимаясь от холода и усталости, худощавый и курносый юноша в чорном бурнусе. То ли дело-то у вас бы: теперь самовар на столе… булки свежие, масло… жинка молодая… постель мягкая…
– Полно, полно! – перебил еще кто-то, – нельзя ли без поэзии! Он и то болен, а ты его дразнишь, право… Человек, разве не видишь, обременен семейством и преждевременной тучностью?
Все захохотали.
Постлали ковер поближе к костру, над которым висел котел, и офицеры расположились закусывать, когда к ним подошел еще один товарищ, закутанный в теплую шинель. Ему предложили закусить, но он отказался и, отошел от кучки так же равнодушно, как и подошел, отправился по берегу оврага, сам не зная зачем.
Кто ж был этот задумчивый ополченец? Спешу сказать, что он был молодой человек и человек честный; без этого ведь он не будет иметь права ни мечтать, ни грустить по родине. Вкус ныньче стал недоверчив, и когда нам представляется Рославлев, Леонид или другой задумчивый воитель, давнишний идеал, мы все, и даже самые независимые из нас, сейчас же спрашиваем себя: «Да; а каков он был с деньщиком своим, этот худощавый брюнет? не бил ли он по зубам его за то, что погончики и петлички были не в порядке, когда ему нужно было говорить графине речи, полные пламенной патриотической грусти? Хорошо ли кормил он свою роту?» и т. п. Муратова изобразить, признаюсь, нелегко… Сказать, что он был белокур, высок ростом и немного флегматичен, сказать, что он был добр и мыслил на досуге… Мало ли, кажется, таких людей! Нельзя ему было и не быть честным: имел он душ восемьсот и женился по любви. Деревня у него была отличная, на порядочной реке. По ту сторону стояла славная белая церковь (на иконостас ее отец-покойник положил немало забот и денег). Издали, среди сплошного леса, давно обращенного в парк, виднелся дикий бельведер старинного дома. Стекла длинных оранжерей сверкали и грелись на полуденном солнце, и под ними назревали персики, сливы и виноград, поднимались, вились и расцветали южные цветы. Если б мне нужно было выставить человека, полного коренных тревог, поднимающих всю душу со дна, или бедняка, жаждущего двух-трех часов светлого отдыха в день, я бы повел его в деревню Муратова и заставил бы с непривычной отрадой смотреть на мирную молодую чету, на ряды служеб, в которых протекала не чуждая страстей дворовая жизнь под сенью умеренной снисходительности, заставил бы его пить чай на террасе, убитой щебнем, где, снизу до верху, вились по натянутым веревочкам belles de nuits. Муратов повел бы его смотреть на вновь насаженные им самим тополи, не превосходившие вышиною кустиков обыкновенной клубники, и непременно сказал бы, желая шуткой ободрить гостя: «А каковы мои тополи? Шапка валится!» – и, нагнувшись к ним, непременно бы сронил с головы фуражку.
Какой бы гордейший пролетарий не улыбнулся ему в эту минуту?
Но для Муратова это все было нипочем.
Новыми и новыми осложнениями богатеет душа человека в разнообразной борьбе. А для молодой четы Муратовых борьба существовала одна – хозяйственная, придававшая легкую, крепительную горечь мягкому и утучняющему пиву их вседневного быта.
Кончив курс в высшем учебном заведении, Муратов женился, уехал в деревню, решился отпустить бороду, надел красную канаусовую рубашку и поддевку, которая очень шла к его сановитой особе, и предался агрономии, заводил заводы… да винокуренный сгорел, а на сахарном немец попался какого-то теоретического склада человек…
Прежде меня и прекрасно говорили другие о забавных иногда и иногда трогательных разочарованиях благонамеренных помещиков… Прошу с небольшими видоизменениями дополнить этот пропуск воображеньем.
Милая жена была благоразумна, как говорили знакомые. Еще нимало не успела поблекнуть ее наружность с тех пор, как впервые увидал ее Муратов, а уже из танцующей и светской девушки стала она рачительной помещицей и доброй домохозяйкой. Во всем старалась она вторить мужу, и хотя в нраве ее недоставало иногда чувства меры, хотя эта охота вечно пересолить бросала некоторую тень на кроткое мерцание их очага, однако читатель, конечно, не захочет отнять сочувствия своего ни от нее, ни от мужа за то, что я чертой осязательного недостатка постараюсь по возможности кратко низвести личность ее с высоты эмблематической добродетели до простого оживления. Например, узнала она, что какой-то прежний писатель находил несомненным признаком d'un bon gentilhomme склонность ходить пешком, что только купец какой-нибудь, как поправился в делах, так и сел на пролетку. Узнав это (а ей еще и прежде советовал доктор, да она все не слушалась), стала она везде с мужем ходить пешком – и на молотьбу, и на жатву, и на завод. Он идет в славянском платье, она – в общепринятом, и с любовью опирается на его руку; он идет широкими шагами (быть может, отчасти с целью отбить у нее охоту), а она еще пуще за ним. Он читает Апостол по праздникам в церкви, и она не отстала: завела у себя общие молитвы по вечерам, на которые с ропотом спешили дворовые люди в назначенный час. К вечеру посещал его конторщик, а ее птичница. Он в кабинете толковал о чем нужно, а она, покуда, в пестрой угловой комнате, утопая в бархатном кресле, подозрительно и пристально глядя в лицо птичнице, спрашивала у нее неясным, утомленным голосом:
– А сколько у тебя яиц теперь, Аксинья?
Иной раз мужу и мешала она; но она была так наивна, темно-серые глаза ее были так велики и томны, так старалась она поддержать в муже память их первого сближенья, на ней все было так мило, от чепчика до вышитой рубашки, что слово укоризны облекалось, выходя из уст мужа, только теплотой полуотеческой любви.
Так как у них было довольно много разных должностных лиц в имении, то она и требовала, чтоб все эти лица не иначе являлись в дикий дом с бельведером, как во фраках. Муж было начал говорить:
– Душа моя, это лишнее… Стеснять…
Но она надулась и не говорила с ним до тех пор, пока он не объявил приказанья. Тогда поцаловала она его руку, и обрадованный муж с глазу на глаз (даже затворивши дверь, чтоб не сконфузиться перед каким-нибудь нечаянно вошедшим слугою) представил ей, как индюшки разговаривают между собой. Начиналось так, слегка в нос:
Дождик идет, дождик идет! Пойдем в огород, пойдем в огород!
Потом являлся садовник и гнал их вон. Индюшки, прыгая, бежали и кричали в ужасе:
Федорыч! Федорыч!
Наконец являлся сам петух и, зашумев напряженными крыльями, восклицал: «Что вы здесь делаете?»
Мир был окончательно заключен, и должностные лица ходили во фраках до самого его отъезда на войну, хотя жену давно уже глодало раскаянье.
Однако, хотя Лиза и старалась соединить в себе столько анахронизмов, все-таки на нее не жаловались те, на которых сильнее всего могла отозваться ее напряженность, хотя она желала быть разом всем на свете: в поле и кладовой – Руфью Вооза, сбирающей колосья, в доме и в саду – придворной западной дамой, а в ласках, расточаемых мужу, искала напомнить страстные берега Средиземного моря, хотя, наконец, какой-нибудь недовольный и мог потрунить над ее изречениями: «Les enfans et les pauvres sont mes amis!» Но люди крепостные, для которых, конечно, все эти оттенки не существовали, любили ее. Она щедро дарила платки, кички и серьги бабам и девушкам на хороводах; первая подала мысль мужу об устройстве хорошей больницы, сама разносила больным сладкое и кислое питье, щипала корпию сама, если было нужно. Ни одна невеста не была насильно отдана замуж, ни один нищий не отходил от порога с пустой рукой; старухи слепые и искалеченные лежали на чистых постелях и кормились прекрасно в маленькой опрятной богадельне. Детей всех дворовых она знала по имени, и если, с одной стороны, эти дети слегка негодовали на нее за строгие экзамены в школе, то, с другой стороны, пряники и т. п. возвращали ей сердца их. Мы, у которых при взгляде на нее не возбуждалось ничего настоятельного, у которых желудок не видел в ней утолителя, кожа – согревателя, слезы – утешителя, мы имели право справляться с законами прекрасного и сожалеть, что многое выходило неловко и негармонично; но для тех-то, для близких, она была добрая барыня и любящая, хорошенькая жена!
Времени у Муратова все-таки много было свободного. Еще задолго до войны озлобился он на французов и англичан. Каждый листок газеты серьезно раздражал его. Он говорил, что французы и англичане отжили и сузились, что их надо освежить, окропить живой водою, и грозился при этих словах кулаком. Начались первые неудовольствия в Европе. Князь Меншиков поехал в Константинополь. Ненависть Муратова стала переменять характер отвлеченности на более живой. Своекорыстная Англия, мозаичная, непрочная Австрия не сходили у него с языка. Турция для него не существовала, конечно; а Наполеон, разумеется, потому только держался, что подданные его, исхитрившись, стали никуда не годны. Он стал поговаривать, пугая жену, о военной службе, напоминал, что чин его слишком уж невелик, а года идут… Могут родиться дети… На беду случилось так, что один гвардеец, его приятель, прослуживший несколько лет на Кавказе, заехал к нему и, за стаканом чая, толкуя о южной природе, о восточных племенах, сообщил ему, между прочим, что у донцов есть поверье, будто когда китаец поднимается, тогда уж никто не устоит против него, что Гоги и Магоги Апокалипсиса именно и есть китайцы.
«Восток, – сказал он сам себе, – призван освежать; вспомним средневековые нашествия» и т. д.
Он долго ходил по большой зале, изредка поглядывая на благородное лицо какого-то деда, висевшего на стене, обремененного крестами и провожавшего его, казалось, ободряющим взором.
Потом пойди он гулять один, в волнении, набреди на давно знакомый ему ключ в берегу речки. Ключ был всегда очень холодный, быстрый и не замерзал зимой; к тому же он окрашивал валявшиеся кругом кости в красноватый цвет и покрывал соседнюю глину блестящими металлическими осадками. Муратов часто навещал этот берег и все собирался свезти воду в Москву, для разложения, и после завести, если окажется в ней что-нибудь, заведение минеральных вод на широкой ноге.
«Теперь не до того уже!»
«Вот, – подумал он, – не предзнаменование ли это также? Холодный, крепкий ключ; он не нагревается летом вровень с другой водой; он постоянен в своей силе, зато и не стынет он, и течение его не останавливается! Не таков ли Восток? Конечно, восток востоку рознь: есть южный восток и северный. Да что там, на юге? Одно саморастление неги…»
Это заняло его до того, что он ходить больше не мог, вернулся домой, развалился на широкий сафьянный диван и, закурив сигару, задумал ехать на войну.
Около этого времени узнал он, что Сент-Арно рискнул не шутя высадить на крымский берег свои духовно-гнилые войска. Казалось бы, куда им? Здесь могучий чорный хлеб, Волга, сосна, луга на тысячу верст – есть где и мышцам и духу окрепнуть, и нервам не избаловаться. А там что?
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пусто народ!