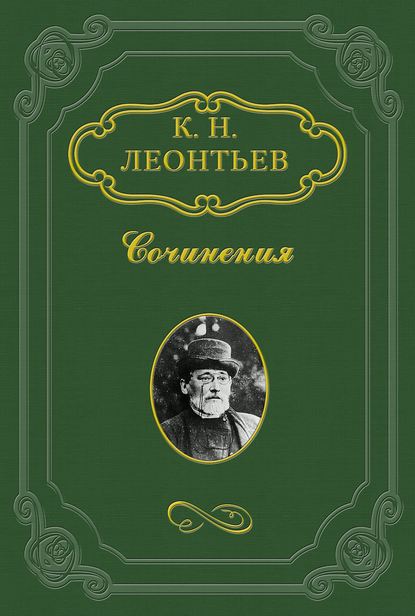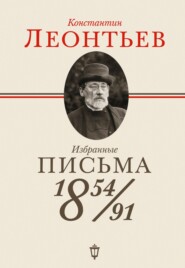По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мои воспоминания о Фракии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мои воспоминания о Фракии
Константин Николаевич Леонтьев
«Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе. Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. … Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю…»
Константин Николаевич Леонтьев
Мои воспоминания о Фракии
I
Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе.
Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. В Родосто у нас был почетный консульский агент г. Каде, подведомственный Адрианопольскому консульству. Он должен был позаботиться о моем спокойствии, взять у каймакама жандармов для сопровождения меня сухим путем до Адрианополя и буюрулду, то есть бумагу, содержащую приказ облегчать мне все на пути и оказывать мне должное внимание. В стране были разбои.
Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю. Я был еще молод тогда и об опасностях как-то мало думал. И к тому же если уже говорить об опасностях, то нельзя не согласиться, что опасность на море как-то бессмысленнее, противнее и вместе с тем неотвратимее, чем опасность от злых людей. С разбойниками можно говорить, можно защищаться или уступить им все. С морем имеют дело только капитан и матросы; но пассажир – что такое? Какое-то несчастное, беспомощное и запертое в клетку животное, которое не имеет ни голоса, ни власти, ни силы! Отвратительно!..
Однако… не знаю и не помню, по русской ли лени, чтобы в Царьграде не хлопотать самому о буюрулду, жандармах и почтовых лошадях, или по какой-то личной слабости, я внял убеждениям знакомых и приятелей, которые мне говорили, что до Родосто всего восемь часов и что я морем доеду скоро и отлично, и сел на пароход один, без провожатого, без слуги, без буюрулду, и мы отплыли часу в девятом утра.
Ветер был северный и Мраморное море было неспокойно; но нас не слишком качало. Пароход был маленький, старый, очень плохой, один из тех, которые ходят по Босфору, и только для плавания в проливе поблизости к берегам и годятся. Он был донельзя наполнен пассажирами и сидел в воде так глубоко, что было очень неприятно смотреть с палубы на свинцовое, мрачное, открытое море, которого волны кипели так близко за бортом. Шел мелкий и частый осенний дождь и, кроме унылого, серого, взволнованного моря и темной полосы все удалявшегося берега, ничего не было видно. Палуба маленького плоского и тесного судна нашего была полна черкесами и всяким народом. Казалось, что пароход стоит на месте, так мы медленно шли. Так прошло несколько часов. Уже вечерело, мы не только не приближались к Родосто, но еще и приморского города Силиврии на полпути не было видно. Я сходил в темную и тесную каюту, опять поднимался на палубу и слушал непонятные мне, но шумные беседы оборванных черкесов, мокших на осеннем нескончаемом дожде… и снова спускался в каюту. Это становилось невыносимо! Я укорял себя строго за то, что на этот раз послушался других, тогда как уже пора мне было привыкнуть, что мои вкусы и мои потребности очень редко совпадают со вкусами и потребностями большинства. Чем же я виноват, если для меня приятнее и легче ехать по Балканам верхом, даже и в дурную погоду, чем на самом лучшем австрийском пароходе Ллойда! Каково же мне было плестись целый день на этой утлой и погруженной по горло в бурное море турецкой черепахе!
Я решился сойти в Силиврии и ехать до Адрианополя двое или трое суток, не спеша, верхом. (Я не знал расстояния и, вообще, я незнаком вовсе был со внутреннею Турцией; я прослужил перед этим только семь месяцев в Крите.)
В каюте я обратил внимание на одного плотного мужчину средних лет с белокурою бородой, в феске и хорошем новом темно-синем европейском ваточном пальто. При нем был слуга, который приготовлял ему наргиле, и еще какие-то спутники, обращавшиеся с ним почтительно.
Я понимал уже по-гречески и из разговора в каюте узнал, что этот важный спутник мой – богатый константинопольский грек, который едет по своим делам в Силиврию.
Я решился обратиться к нему за советом, когда мы выйдем на берег. О расходах на уплату извозчику, присланному из Адрианополя в Родосто для меня нарочно Золотаревым, о потере половины билета, взятого до Родосто, и о других тому подобных вещах я забыл, конечно, и думать, радуясь, что избавлюсь от тоски ехать еще дальше морем.
Как только мы вышли или, лучше сказать, взобрались с большим трудом с лодочки на бревенчатую пристань печального городка Силиврии, я обратился к полному греку и сказал ему по-гречески:
– Я, кирие-му (господин мой), здесь ничего и никого не знаю. Хочу ехать в Адрианополь сухим путем и не имею никакого понятия, где и что мне достать и сколько заплатить… Не поможете ли вы мне вашими советами?.. Я – православный.
Грек, не вынимая рук из карманов пальто, поглядел на меня несколько надменно и заметил холодно:
– Вы должно быть иностранец? По вашему произношению я вижу, вы не эллин. Не валах ли вы?
– Нет, я русский, – отвечал я.
Фанариот тотчас же переменил тон и, подавая мне руку, сказал с участием:
– А! вы русский!.. Что же, все это легко устроить.
И, обращаясь потом к другому спутнику своему, греку же, он сказал:
– Здесь, в Силиврии, мы имеем много греков-русофилов, которые будут очень рады оказать господину этому гостеприимство…
– Я знаю хорошо только критских греков, – сказал я на это, – но от них я видел столько дружбы к русским и столько любезности, что одно мое желание – встретить такие же чувства во Фракии.
Разговор этот происходил на пристани, где эти греки ждали кого-то. Но ждали мы очень недолго; почти сейчас же прибежал довольно красивый, усатый мужчина, лет тридцати, прекрасно и очень чисто одетый по-восточному. На нем были шальвары такого покроя и умеренной ширины, какие носят низамы и французские зуавы, куртка и жилет со множеством пуговиц. Вся одежда эта была темно-оливкового цвета и тонкого сукна; яркая феска и красный кушак очень шли к этому серьезному общему цвету платья. Я с радостью всегда встречал на Востоке всякую, даже неопрятную и очень бедную, лишь бы не европейскую одежду и помнил еще живо тот сердечный отдых, какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый раз после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидал, наконец, на улицах толпу не западную, а какую-то для меня новую и приятную. В первый раз я в Сире увидал, что не всегда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще места, где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет… Так это весело, после всей этой казенщины XIX века!
Пришедший на пристань грек в оливковом платье был родственник не того полного фанариота, к которому я обратился за помощью, а другого – его спутника, которого теперь я даже и наружность забыл. Он тоже был одет по-европейски, имен я их вовсе не помню. Грек, по-восточному одетый, был семейный человек; он имел в Силиврии очень хороший, просторный и чистый дом. Он всех нас к себе тотчас же и повел.
Про Силиврию я должен сказать, что это маленький, унылый и небогатый городок. Он показался мне очень печальным, особенно под этим серым небом и при мелком дожде, который все не кончался. Я помню, что мы шли осторожно через грязь и кучи сгнившего сена или навоза, по которому нахохлившись бродили мокрые куры. Помню какие-то бедные серые стены… и больше ничего.
В доме у живописного грека зато было очень хорошо: светло, просторно, чисто, просто; широкие диваны около стен, никаких из тех противных претензий, которых повсюду так много в домах средней руки, по-европейски убранных. Молодая, полная, белокурая хозяйка была приветлива и, по обычаю гречанок и болгарок, очень скромна и молчалива. Дети были красивы и здоровы. Обедом нас накормили и, сколько помню, недурным, хотя, разумеется, местного вкуса: очень густым рисовым супом с лимоном и яичным желтком (авго-лемоно любимый суп на Востоке), вареною курицей, вынутою из этого же супа и очень хорошею жареною бараниной. Я забыл сказать, что в одно почти время с нами пришли в этот греческий дом двое турок; они были беи или чиновники (не помню), оба средних лет, в фесках и низамских черных сюртуках; очень вежливы и разговорчивы. И они обедали с нами. Дело было в том, что фанариоты приехали из Царьграда покупать у этих турок имение под Силиврией, и все собрались в том доме, куда я случайно попал.
После обеда все они, и турки, и греки, приняли очень живое участие в моем положении и каждый давал советы на чем и по какой дороге ехать. Прежде всего, разумеется, явился у кого-то на сцену здравый смысл в виде совета переночевать тут, вскочить на рассвете и бегом бежать опять на тот же пароходик, который сам «страха ради морского» заночевал в Силиврийской гавани. И все это, чтобы меньше истратить! Но я всегда находил, во-первых, что вскакивать и бежать можно только в очень важных случаях (для отчизны, например, или для пользы другого), а никак не для себя, когда все можно делать не спеша и сохраняя хотя сколько-нибудь то человеческое достоинство, которое так глубоко потрясено всеми этими парами и беготней.
Я не колеблясь отверг совет здравого смысла и решился идти к каймакаму, чтобы выпросить у него буюрулду и жандарма для долгого странствования сухим путем. Оливковый и живописный усач-хозяин любезно взялся быть моим драгоманом, ибо я и по-турецки знал еще очень мало, и мы с фонарем в темноте отправились по непроходимой грязи в конак. По правде сказать, меня все это – и грязь, и ночь, и фонарь, и хозяин, и каймакам – очень занимало.
Мы пришли в конак. Надо помнить, что у меня не было никаких удостоверений моей личности, кроме паспорта на французском языке, выданного мне из константинопольского нашего консульства. Французского языка в конаке каймакама никто не знал. Двуглавый орел на паспорте мог доказывать только, что паспорт русский, но кто я сам такой: действительно ли управляющий русским консульством в Адрианополе, который без труда в счастливый час может ловким подводом даже и сместить этого самого каймакама, или просто торгующий русский подданный, или самозванец и какой-нибудь вредный и независящий от правительства агент… У меня было одно доказательство – мой aplomb. На него только была надежда. Поэтому я взошел в залу меджлиса, как правый и сильный человек. Зная слово векиль (управляющий, исправляющий должность), я подошел к каймакаму и, протягивая ему руку, сказал (вероятно вовсе неправильно).
– Эдирне Москов консулос векиль, эфендим!.. Каймакам встал с дивана и все присутствующие за ним. Каймакам был невзрачен, очень бледен, как восковой; черные выпуклые глаза и очень острый нос придавали лицу его что-то недоброе, хищнически-птичье… Я, не дождавшись приглашения, сел на диван как можно ближе к нему и подал ему паспорт, указывая на двуглавого орла. Каймакам посмотрел и, почтительно приложив руку к сердцу и лбу, возвратил мне паспорт. Потом спросил: «Здоров ли я и надолго ли в их городе?» – и поздравил с приездом.
Тогда я попросил своего оливкового хозяина объяснить ему все: о Родосто, о том, что меня ждет чуть не свита, о том, что буюрулду я не взял просто по нерадению, будучи уверен, что и так, в случае нужды, мне власти везде окажут внимание и исполнят свой долг.
– Это наш долг, это наш долг! – повторил каймакам выразительно и приказал тотчас же написать мне от себя буюрулду, оговорившись, что она будет иметь вес только в его округе, а потом где-то, не доезжая до Адрианополя, надо будет взять от другого каймакама новый.
После этого он очень любезно и патриархально вошел в мои денежные потери и сказал, что если он не вмешается, то с меня могут взять за почтовых лошадей вдвое. По правилам, купцы и вообще не служащие люди платят вдвое больше чиновников как турецких, так и иностранных за почтовых лошадей.
Позвали цыгана, хозяина почты.
– Сколько ты возьмешь с господина этого за лошадь? Ему нужно платить за трех лошадей: за свою, за твою и за вьючную, – спросил каймакам.
Цыган назначил обыкновенную не чиновничью цену.
Каймакам сказал, что он должен взять половину. Ямщик возразил было, что у меня нет буюрулду (кто знает, что это за человек!). Но каймакам только этого и ждал, то есть чтоб обнаружить мне свое доверие и административную энергию.
– Молчать осел!.. – крикнул он. – Разве это твое дело… Цыган смирился и я, поблагодарив каймакама (который просил меня со своей стороны не забывать его), вернулся домой.
Итак, все устроилось прекрасно; завтра я свободен от душной каюты, от седых волн, от плохого турецкого прогресса; я поеду в Адрианополь так или почти так, как езжали в Турции еще в те времена, когда турки были грозны и страшны всей Европе, когда великий визирь на извещение французского посла о победе, одержанной его королем над австрийцами, имел еще возможность отвечать с оригинальною прямотой: «Хорошо; я доложу султану; но, по правде сказать, нам все равно: собака ли ест свинью или свинья ест собаку!»
И в самом деле, все было прекрасно. Переночевали мы у гостеприимного грека хорошо. На очень чистом полу в просторной и светлой комнате с диваном, комодом и столиком, нам, всем пятерым гостям: двум туркам, двум фанариотам и мне, постелила белокурая и солидная хозяйка широкие, свежие и превеселые на вид пестрые ситцевые тюфяки, положила узенькие подушки со свежими наволочками и накрыла стегаными шерстяными и ситцевыми, тоже очень чистыми и новыми одеялами.
Мы все легли рядом, и я поутру, проснувшись позже всех, пил не спеша обожаемый кофе, курил, курил, очень долго курил, и пил, и… наконец-то, наконец, около полудня тронулся в путь верхом с суруджи (ямщиком), жандармом и вьючною лошадью по унылым, серым и пустынным холмистым полям южной Фракии.
II
Не помню сколько дней мы ехали, два или три дня. Я думаю, что три, потому что я люблю ехать на лошади скоро, но при этом не люблю долгих, без отдыха переездов, и с привала меня поднять довольно трудно.
Вообще из этого путешествия у меня мало осталось в памяти любопытного и поучительного. Мы ехали через городки: Чорлу, Баба-Эски, Луле-Бургас и Хапсу. После Хапсы Адрианополь.
Все эти городки, вообще, очень однообразны, бедны, некрасивы и очень унылы. К ним вот можно, если уж непременно нужно, приложить те иеремиады прогресса, которые мы постоянно читаем, когда речь идет в нашей печати, не менее серой впрочем, чем эти забытые уголки Турции. Мне через них пришлось и позднее проезжать еще раза два. И так как я решительно не в силах по-немецки или по-английски записывать, замечать, нарочно наблюдать и разыскивать, то поэтому и теперь, даже после троекратного путешествия, все эти небольшие города для меня сливаются в нечто однородное и общетурецкое, очень печального оттенка. Я помню, что в Луле-Бургасе лепят из глины с золотом и без золота чрезвычайно хорошо всякого рода вещи: чашечки, пепельницы, блюдечки, не говоря уже о превосходных трубках для чубуков (оттого и название луле, трубка). По заказу и по образцу мастера в Луле-Бургасе способны делать иногда вещи вполне художественные. Так, например, у французского консула в Адрианополе, г. Гиза, человека образованного и не лишенного вкуса (чего нельзя было вообще сказать о наших французских коллегах на Востоке), был в доме древний, глиняный, из Египта, очень своеобразный и красивый сосуд. Это был небольшой графин для воды, несколько широкий и низкий, с глиняною же пробкой и двумя ручками по сторонам, изображавшими очень отчетливо и чисто утиные головы. Г. Гиз отдал этот древний сосуд мастерам в Луле-Бургасе, чтоб они по образцу его сделали другой такой же. Они сделали и потом было очень трудно отличить новый сосуд от древнего, который прекрасно сохранился. Только глина нового казалась потемнее. Чорлу я совсем не помню. Баба-Эски, кажется, больше других по размерам и в нем есть большая, хорошая мечеть с широким куполом. А в Хапсе есть развалины прекрасного старинного караван-сарая, который был построен из тесаного камня.
Я помню эти развалины Хапсов и небольшой хан против них у старой арки в полуразрушенной стене, но помню их и не в этот осенний день, когда я проехал мимо них невнимательно и занятый лишь своими думами, а в другой раз, в жгучий полдень южного июля, когда я, сидя с наргиле под навесом хана, смотрел на борьбу нагих пехлеванов, приглашенных на состязание по случаю какой-то турецкой свадьбы; смотрел на синее безоблачное небо, на множество молодых аистов, которые еще только учились летать, поднимаясь невысоко над гнездами, воздвигнутыми их родителями во множестве по стенам и остаткам караван-сарая…
Это было прекрасно! Зелень в тени высокой стены пред ханом была густа и свежа… У стены этой напротив нас сидели в тени на траве турчанки и бегали дети с криками и весельем. Восточная музыка играла в одно и то же время и заунывно и пронзительно… Было что-то особым образом возбуждающее в ее нестройной и дикой поэзии… Боролись красивые, сильные борцы, босые, с нагими могучими торсами… Боролись мирно, весело, соблюдая все рыцарские правила честной игры…
Турецкая жизнь и южная природа являлись в тот раз предо мной своими прекрасными, поэтическими сторонами. Но это было год спустя; первый же раз я знакомился с фракийскими полями и фракийскою жизнью в октябре, в дурную погоду, когда в унылых городках, чрез которые я проезжал, не было ничего, кроме грязи и мертвенной тишины. Но я вовсе не каялся, что поехал сухим путем, и все невзгоды переносил тогда очень весело. Закутавшись в бурку, я мок на мелком дожде и слушал с удовольствием песни суруджи, не понимая в них ни слова.
Константин Николаевич Леонтьев
«Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе. Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. … Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю…»
Константин Николаевич Леонтьев
Мои воспоминания о Фракии
I
Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе.
Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. В Родосто у нас был почетный консульский агент г. Каде, подведомственный Адрианопольскому консульству. Он должен был позаботиться о моем спокойствии, взять у каймакама жандармов для сопровождения меня сухим путем до Адрианополя и буюрулду, то есть бумагу, содержащую приказ облегчать мне все на пути и оказывать мне должное внимание. В стране были разбои.
Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю. Я был еще молод тогда и об опасностях как-то мало думал. И к тому же если уже говорить об опасностях, то нельзя не согласиться, что опасность на море как-то бессмысленнее, противнее и вместе с тем неотвратимее, чем опасность от злых людей. С разбойниками можно говорить, можно защищаться или уступить им все. С морем имеют дело только капитан и матросы; но пассажир – что такое? Какое-то несчастное, беспомощное и запертое в клетку животное, которое не имеет ни голоса, ни власти, ни силы! Отвратительно!..
Однако… не знаю и не помню, по русской ли лени, чтобы в Царьграде не хлопотать самому о буюрулду, жандармах и почтовых лошадях, или по какой-то личной слабости, я внял убеждениям знакомых и приятелей, которые мне говорили, что до Родосто всего восемь часов и что я морем доеду скоро и отлично, и сел на пароход один, без провожатого, без слуги, без буюрулду, и мы отплыли часу в девятом утра.
Ветер был северный и Мраморное море было неспокойно; но нас не слишком качало. Пароход был маленький, старый, очень плохой, один из тех, которые ходят по Босфору, и только для плавания в проливе поблизости к берегам и годятся. Он был донельзя наполнен пассажирами и сидел в воде так глубоко, что было очень неприятно смотреть с палубы на свинцовое, мрачное, открытое море, которого волны кипели так близко за бортом. Шел мелкий и частый осенний дождь и, кроме унылого, серого, взволнованного моря и темной полосы все удалявшегося берега, ничего не было видно. Палуба маленького плоского и тесного судна нашего была полна черкесами и всяким народом. Казалось, что пароход стоит на месте, так мы медленно шли. Так прошло несколько часов. Уже вечерело, мы не только не приближались к Родосто, но еще и приморского города Силиврии на полпути не было видно. Я сходил в темную и тесную каюту, опять поднимался на палубу и слушал непонятные мне, но шумные беседы оборванных черкесов, мокших на осеннем нескончаемом дожде… и снова спускался в каюту. Это становилось невыносимо! Я укорял себя строго за то, что на этот раз послушался других, тогда как уже пора мне было привыкнуть, что мои вкусы и мои потребности очень редко совпадают со вкусами и потребностями большинства. Чем же я виноват, если для меня приятнее и легче ехать по Балканам верхом, даже и в дурную погоду, чем на самом лучшем австрийском пароходе Ллойда! Каково же мне было плестись целый день на этой утлой и погруженной по горло в бурное море турецкой черепахе!
Я решился сойти в Силиврии и ехать до Адрианополя двое или трое суток, не спеша, верхом. (Я не знал расстояния и, вообще, я незнаком вовсе был со внутреннею Турцией; я прослужил перед этим только семь месяцев в Крите.)
В каюте я обратил внимание на одного плотного мужчину средних лет с белокурою бородой, в феске и хорошем новом темно-синем европейском ваточном пальто. При нем был слуга, который приготовлял ему наргиле, и еще какие-то спутники, обращавшиеся с ним почтительно.
Я понимал уже по-гречески и из разговора в каюте узнал, что этот важный спутник мой – богатый константинопольский грек, который едет по своим делам в Силиврию.
Я решился обратиться к нему за советом, когда мы выйдем на берег. О расходах на уплату извозчику, присланному из Адрианополя в Родосто для меня нарочно Золотаревым, о потере половины билета, взятого до Родосто, и о других тому подобных вещах я забыл, конечно, и думать, радуясь, что избавлюсь от тоски ехать еще дальше морем.
Как только мы вышли или, лучше сказать, взобрались с большим трудом с лодочки на бревенчатую пристань печального городка Силиврии, я обратился к полному греку и сказал ему по-гречески:
– Я, кирие-му (господин мой), здесь ничего и никого не знаю. Хочу ехать в Адрианополь сухим путем и не имею никакого понятия, где и что мне достать и сколько заплатить… Не поможете ли вы мне вашими советами?.. Я – православный.
Грек, не вынимая рук из карманов пальто, поглядел на меня несколько надменно и заметил холодно:
– Вы должно быть иностранец? По вашему произношению я вижу, вы не эллин. Не валах ли вы?
– Нет, я русский, – отвечал я.
Фанариот тотчас же переменил тон и, подавая мне руку, сказал с участием:
– А! вы русский!.. Что же, все это легко устроить.
И, обращаясь потом к другому спутнику своему, греку же, он сказал:
– Здесь, в Силиврии, мы имеем много греков-русофилов, которые будут очень рады оказать господину этому гостеприимство…
– Я знаю хорошо только критских греков, – сказал я на это, – но от них я видел столько дружбы к русским и столько любезности, что одно мое желание – встретить такие же чувства во Фракии.
Разговор этот происходил на пристани, где эти греки ждали кого-то. Но ждали мы очень недолго; почти сейчас же прибежал довольно красивый, усатый мужчина, лет тридцати, прекрасно и очень чисто одетый по-восточному. На нем были шальвары такого покроя и умеренной ширины, какие носят низамы и французские зуавы, куртка и жилет со множеством пуговиц. Вся одежда эта была темно-оливкового цвета и тонкого сукна; яркая феска и красный кушак очень шли к этому серьезному общему цвету платья. Я с радостью всегда встречал на Востоке всякую, даже неопрятную и очень бедную, лишь бы не европейскую одежду и помнил еще живо тот сердечный отдых, какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый раз после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидал, наконец, на улицах толпу не западную, а какую-то для меня новую и приятную. В первый раз я в Сире увидал, что не всегда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще места, где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет… Так это весело, после всей этой казенщины XIX века!
Пришедший на пристань грек в оливковом платье был родственник не того полного фанариота, к которому я обратился за помощью, а другого – его спутника, которого теперь я даже и наружность забыл. Он тоже был одет по-европейски, имен я их вовсе не помню. Грек, по-восточному одетый, был семейный человек; он имел в Силиврии очень хороший, просторный и чистый дом. Он всех нас к себе тотчас же и повел.
Про Силиврию я должен сказать, что это маленький, унылый и небогатый городок. Он показался мне очень печальным, особенно под этим серым небом и при мелком дожде, который все не кончался. Я помню, что мы шли осторожно через грязь и кучи сгнившего сена или навоза, по которому нахохлившись бродили мокрые куры. Помню какие-то бедные серые стены… и больше ничего.
В доме у живописного грека зато было очень хорошо: светло, просторно, чисто, просто; широкие диваны около стен, никаких из тех противных претензий, которых повсюду так много в домах средней руки, по-европейски убранных. Молодая, полная, белокурая хозяйка была приветлива и, по обычаю гречанок и болгарок, очень скромна и молчалива. Дети были красивы и здоровы. Обедом нас накормили и, сколько помню, недурным, хотя, разумеется, местного вкуса: очень густым рисовым супом с лимоном и яичным желтком (авго-лемоно любимый суп на Востоке), вареною курицей, вынутою из этого же супа и очень хорошею жареною бараниной. Я забыл сказать, что в одно почти время с нами пришли в этот греческий дом двое турок; они были беи или чиновники (не помню), оба средних лет, в фесках и низамских черных сюртуках; очень вежливы и разговорчивы. И они обедали с нами. Дело было в том, что фанариоты приехали из Царьграда покупать у этих турок имение под Силиврией, и все собрались в том доме, куда я случайно попал.
После обеда все они, и турки, и греки, приняли очень живое участие в моем положении и каждый давал советы на чем и по какой дороге ехать. Прежде всего, разумеется, явился у кого-то на сцену здравый смысл в виде совета переночевать тут, вскочить на рассвете и бегом бежать опять на тот же пароходик, который сам «страха ради морского» заночевал в Силиврийской гавани. И все это, чтобы меньше истратить! Но я всегда находил, во-первых, что вскакивать и бежать можно только в очень важных случаях (для отчизны, например, или для пользы другого), а никак не для себя, когда все можно делать не спеша и сохраняя хотя сколько-нибудь то человеческое достоинство, которое так глубоко потрясено всеми этими парами и беготней.
Я не колеблясь отверг совет здравого смысла и решился идти к каймакаму, чтобы выпросить у него буюрулду и жандарма для долгого странствования сухим путем. Оливковый и живописный усач-хозяин любезно взялся быть моим драгоманом, ибо я и по-турецки знал еще очень мало, и мы с фонарем в темноте отправились по непроходимой грязи в конак. По правде сказать, меня все это – и грязь, и ночь, и фонарь, и хозяин, и каймакам – очень занимало.
Мы пришли в конак. Надо помнить, что у меня не было никаких удостоверений моей личности, кроме паспорта на французском языке, выданного мне из константинопольского нашего консульства. Французского языка в конаке каймакама никто не знал. Двуглавый орел на паспорте мог доказывать только, что паспорт русский, но кто я сам такой: действительно ли управляющий русским консульством в Адрианополе, который без труда в счастливый час может ловким подводом даже и сместить этого самого каймакама, или просто торгующий русский подданный, или самозванец и какой-нибудь вредный и независящий от правительства агент… У меня было одно доказательство – мой aplomb. На него только была надежда. Поэтому я взошел в залу меджлиса, как правый и сильный человек. Зная слово векиль (управляющий, исправляющий должность), я подошел к каймакаму и, протягивая ему руку, сказал (вероятно вовсе неправильно).
– Эдирне Москов консулос векиль, эфендим!.. Каймакам встал с дивана и все присутствующие за ним. Каймакам был невзрачен, очень бледен, как восковой; черные выпуклые глаза и очень острый нос придавали лицу его что-то недоброе, хищнически-птичье… Я, не дождавшись приглашения, сел на диван как можно ближе к нему и подал ему паспорт, указывая на двуглавого орла. Каймакам посмотрел и, почтительно приложив руку к сердцу и лбу, возвратил мне паспорт. Потом спросил: «Здоров ли я и надолго ли в их городе?» – и поздравил с приездом.
Тогда я попросил своего оливкового хозяина объяснить ему все: о Родосто, о том, что меня ждет чуть не свита, о том, что буюрулду я не взял просто по нерадению, будучи уверен, что и так, в случае нужды, мне власти везде окажут внимание и исполнят свой долг.
– Это наш долг, это наш долг! – повторил каймакам выразительно и приказал тотчас же написать мне от себя буюрулду, оговорившись, что она будет иметь вес только в его округе, а потом где-то, не доезжая до Адрианополя, надо будет взять от другого каймакама новый.
После этого он очень любезно и патриархально вошел в мои денежные потери и сказал, что если он не вмешается, то с меня могут взять за почтовых лошадей вдвое. По правилам, купцы и вообще не служащие люди платят вдвое больше чиновников как турецких, так и иностранных за почтовых лошадей.
Позвали цыгана, хозяина почты.
– Сколько ты возьмешь с господина этого за лошадь? Ему нужно платить за трех лошадей: за свою, за твою и за вьючную, – спросил каймакам.
Цыган назначил обыкновенную не чиновничью цену.
Каймакам сказал, что он должен взять половину. Ямщик возразил было, что у меня нет буюрулду (кто знает, что это за человек!). Но каймакам только этого и ждал, то есть чтоб обнаружить мне свое доверие и административную энергию.
– Молчать осел!.. – крикнул он. – Разве это твое дело… Цыган смирился и я, поблагодарив каймакама (который просил меня со своей стороны не забывать его), вернулся домой.
Итак, все устроилось прекрасно; завтра я свободен от душной каюты, от седых волн, от плохого турецкого прогресса; я поеду в Адрианополь так или почти так, как езжали в Турции еще в те времена, когда турки были грозны и страшны всей Европе, когда великий визирь на извещение французского посла о победе, одержанной его королем над австрийцами, имел еще возможность отвечать с оригинальною прямотой: «Хорошо; я доложу султану; но, по правде сказать, нам все равно: собака ли ест свинью или свинья ест собаку!»
И в самом деле, все было прекрасно. Переночевали мы у гостеприимного грека хорошо. На очень чистом полу в просторной и светлой комнате с диваном, комодом и столиком, нам, всем пятерым гостям: двум туркам, двум фанариотам и мне, постелила белокурая и солидная хозяйка широкие, свежие и превеселые на вид пестрые ситцевые тюфяки, положила узенькие подушки со свежими наволочками и накрыла стегаными шерстяными и ситцевыми, тоже очень чистыми и новыми одеялами.
Мы все легли рядом, и я поутру, проснувшись позже всех, пил не спеша обожаемый кофе, курил, курил, очень долго курил, и пил, и… наконец-то, наконец, около полудня тронулся в путь верхом с суруджи (ямщиком), жандармом и вьючною лошадью по унылым, серым и пустынным холмистым полям южной Фракии.
II
Не помню сколько дней мы ехали, два или три дня. Я думаю, что три, потому что я люблю ехать на лошади скоро, но при этом не люблю долгих, без отдыха переездов, и с привала меня поднять довольно трудно.
Вообще из этого путешествия у меня мало осталось в памяти любопытного и поучительного. Мы ехали через городки: Чорлу, Баба-Эски, Луле-Бургас и Хапсу. После Хапсы Адрианополь.
Все эти городки, вообще, очень однообразны, бедны, некрасивы и очень унылы. К ним вот можно, если уж непременно нужно, приложить те иеремиады прогресса, которые мы постоянно читаем, когда речь идет в нашей печати, не менее серой впрочем, чем эти забытые уголки Турции. Мне через них пришлось и позднее проезжать еще раза два. И так как я решительно не в силах по-немецки или по-английски записывать, замечать, нарочно наблюдать и разыскивать, то поэтому и теперь, даже после троекратного путешествия, все эти небольшие города для меня сливаются в нечто однородное и общетурецкое, очень печального оттенка. Я помню, что в Луле-Бургасе лепят из глины с золотом и без золота чрезвычайно хорошо всякого рода вещи: чашечки, пепельницы, блюдечки, не говоря уже о превосходных трубках для чубуков (оттого и название луле, трубка). По заказу и по образцу мастера в Луле-Бургасе способны делать иногда вещи вполне художественные. Так, например, у французского консула в Адрианополе, г. Гиза, человека образованного и не лишенного вкуса (чего нельзя было вообще сказать о наших французских коллегах на Востоке), был в доме древний, глиняный, из Египта, очень своеобразный и красивый сосуд. Это был небольшой графин для воды, несколько широкий и низкий, с глиняною же пробкой и двумя ручками по сторонам, изображавшими очень отчетливо и чисто утиные головы. Г. Гиз отдал этот древний сосуд мастерам в Луле-Бургасе, чтоб они по образцу его сделали другой такой же. Они сделали и потом было очень трудно отличить новый сосуд от древнего, который прекрасно сохранился. Только глина нового казалась потемнее. Чорлу я совсем не помню. Баба-Эски, кажется, больше других по размерам и в нем есть большая, хорошая мечеть с широким куполом. А в Хапсе есть развалины прекрасного старинного караван-сарая, который был построен из тесаного камня.
Я помню эти развалины Хапсов и небольшой хан против них у старой арки в полуразрушенной стене, но помню их и не в этот осенний день, когда я проехал мимо них невнимательно и занятый лишь своими думами, а в другой раз, в жгучий полдень южного июля, когда я, сидя с наргиле под навесом хана, смотрел на борьбу нагих пехлеванов, приглашенных на состязание по случаю какой-то турецкой свадьбы; смотрел на синее безоблачное небо, на множество молодых аистов, которые еще только учились летать, поднимаясь невысоко над гнездами, воздвигнутыми их родителями во множестве по стенам и остаткам караван-сарая…
Это было прекрасно! Зелень в тени высокой стены пред ханом была густа и свежа… У стены этой напротив нас сидели в тени на траве турчанки и бегали дети с криками и весельем. Восточная музыка играла в одно и то же время и заунывно и пронзительно… Было что-то особым образом возбуждающее в ее нестройной и дикой поэзии… Боролись красивые, сильные борцы, босые, с нагими могучими торсами… Боролись мирно, весело, соблюдая все рыцарские правила честной игры…
Турецкая жизнь и южная природа являлись в тот раз предо мной своими прекрасными, поэтическими сторонами. Но это было год спустя; первый же раз я знакомился с фракийскими полями и фракийскою жизнью в октябре, в дурную погоду, когда в унылых городках, чрез которые я проезжал, не было ничего, кроме грязи и мертвенной тишины. Но я вовсе не каялся, что поехал сухим путем, и все невзгоды переносил тогда очень весело. Закутавшись в бурку, я мок на мелком дожде и слушал с удовольствием песни суруджи, не понимая в них ни слова.