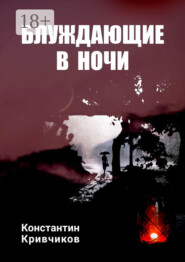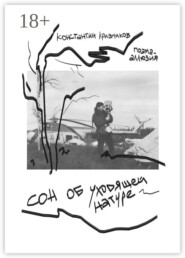По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От идеи до формулы. Технология литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В то же время, исходя из свободы творческого выбора, никто не запретит вам сформулировать тему «Крестного отца» как «верное служение семье», сузив тему до размеров мотивации главных героев, а тему «Ромео и Джульетты» обозначить как «влияние любви на взаимоотношения враждующих кланов», выйдя за границы мотивации главных героев.
Представьте, что вы хотите написать историю о средневековом рыцаре, который, влюбившись в жену своего сюзерена, сбежал с ней и перешел на сторону врага. Константа этой истории может выглядеть так – запретная любовь приводит к измене. Тема же может быть сформулирована по-разному, в зависимости от смыслового содержания всего произведения. И как «запретная любовь», и как «любовь и служебный долг», и даже как «влияние адюльтера на развитие товарно-денежных отношений в эпоху Средневековья».
В общем, не будем педантами и крючкотворами – литература не математика. Тема пусть остается темой, а идея – идеей, несмотря на то, что в отдельных случаях они могут совпадать (тем более с учетом индивидуального взгляда на содержание той или иной истории). Договоримся, что в нашей формуле драматического произведения у темы и константы своя роль и свои задачи. Тему можно сравнить с общим вектором направления движения – на восток через тайгу и болота, а константа выполняет роль маршрута на карте, задавая конкретные ориентиры (структуру литературной истории).
Кроме того, с моей точки зрения, при создании произведения содержание темы вообще не важно – за исключением случаев работы по конкретному заказу. Автору стоит подумать о теме на заключительной стадии работы – хотя бы для того, чтобы четче прояснить основные смыслы своей истории. И если вы правильно определились с доминирующими мотивациями главных действующих лиц (ГДЛ) и сумели раскрыть их характеры, то тема «нарастет» на скелет сюжетной конструкции сама собой. В том смысле, что персонажи сами своими действиями сформируют основное тематическое содержание, расставив необходимые акценты.
А вот если автор затрудняется определить главную тему собственной истории, то это тревожный симптом. Потому что тема всегда находится во взаимосвязи с формой. И если тема не формулируется, то и с формой что-то не так – она либо расплывается и расползается, как перезревшее дрожжевое тесто, либо невнятна по вкусовым смыслам, словно нынешняя докторская колбаса.
Итак, понятие и содержание темы (применительно к нашей формуле) в отдельной детализации не нуждается, ибо является неделимым элементом. Подчеркнем лишь, что тема часто (не всегда) является отправной точкой, с которой начинается разработка сюжета драматического произведения, и всегда взаимосвязана с константой.
А вот структуру и содержание констатирующей идеи, как основной части формулы, мы, безусловно, детализируем и раскроем.
Помня завет Фрея о трех столпах идеи: персонаже, конфликте и результате, я предлагаю следующую формулу констатирующей идеи:
КИ = ГГ + КК + ИР
Описать и расшифровать эту формулу можно следующим образом: констатирующая идея раскрывается и доказывается через главного героя (ГГ), вступающего в ключевой конфликт (КК) и приходящего к итоговому результату (ИР).
Главный герой
Выведем отдельную формулу для главного героя (ГГ).
Главный герой должен быть сложным и многомерным – это аксиома. Эгри называет такие персонажи «трехгранными» и выделяет физиологическую, социологическую и психологическую грани. Не буду расшифровывать данные понятия, потому что это выходит за рамки монографии. А соответствующий материал можно найти у Эгри или того же Фрея. Обобщу (для формулы) перечисленные грани одним емким термином – характеристика (Х).
Понятно, что герой драматического произведения должен действовать. Для того чтобы эти действия выглядели цельными и оправданными в глазах читателя, герой должен обладать доминирующей мотивацией (ДМ). Замечу, что Фрей прибегает к определению «страсть», но для формулы, на мой взгляд, более уместно определение «мотивация». Оно шире и глубже, и при этом нейтральное, а экзальтированное определение «страсть» фонтанирует мелодрамой в духе разбитного цыганского романса «Очи черные».
Как утверждает американский драматург, автор пособия «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только» Роберт Макки, главный герой литературной истории, это персонаж, имеющий осознанное желание-цель, обладающий силой воли и другими качествами-характеристиками, необходимыми для достижения цели.
Распространенной ошибкой начинающих авторов является создание пассивного главного героя.
История не может рассказывать о главном герое, который ничего не хочет, не способен принимать решения и чьи действия не приводят к каким бы то ни было изменениям.
Начинающие авторы должны высечь на своих скрижалях: желание героя (оно же – мотивация) всегда ключ к сюжетному действию. Если ваш ГГ ленив, как кастрированный кот, утопите его в канализации. Его, это героя, а не кота. Кот пусть живет и радуется вашим литературным гонорарам.
Из вышесказанного не следует, что героем литературной истории не может стать «простой человек», какой-нибудь пьющий и ленивый слесарь-сантехник Вася Пупкин. О «простых» людях писать можно, более того, нужно. Но даже самый простой персонаж должен – в драматическом произведении – отличаться от обычного человека, которого мы каждый день видим в жизни: в семье, на работе, на улице… Просто так описывать жизнь рядового человека можно, но зачем? Уверяю вас – получится очень скучно.
Вспомните «Шинель» Гоголя. Его Акакий Башмачкин вроде бы обычный чиновник низшей категории, «маленький человек», не герой, а канцелярская крыса. Но Гоголь наделил Башмачкина доминирующей мотивацией, настоящей страстью – мечтой о новой шинели, и создал гениального персонажа, потрясшего воображения читателя. Вот это качество – страсть – и отличает героя драматического произведения от «обычного» человека.
Задумайтесь над таким вопросом: часто ли мы встречаем в жизни людей, способных на реализацию мечты? В единичных случаях. А вот обычные, скучные и нудные обыватели, включая, пардон, нас самих, попадаются на каждом шагу. Потому и скучны простые люди для описания, потому что у них нет ярких, выразительных черт в ХАРАКТЕРЕ. Но если человек способен на страсть – это готовый персонаж для драматического произведения. Пример на все времена – летчик Алексей Маресьев, ставший героем «Повести о настоящем человеке».
Чтобы не возвращаться к данной теме, специально для любителей разводить мерехлюндию и копаться в тончайших нюансах человеческой души, уточню и заострю вопрос: может ли в центре литературной истории находиться вялый (слабый, лишенный мотивации) герой? Вообще, в принципе?
В центре драматической истории – нет, подобный герой находиться не может, это исключено. С ним драматической коллизии не получится по определению. В психологической истории такое гипотетически возможно. Но практически я не могу представить себе персонажа, полностью лишенного мотивации. Персонаж, лишенный желаний, это труп. Так что, хотя бы какие-то чувства и устремления у вашего героя все равно должны присутствовать – будь вы хоть Вирджиния Вулф и Марсель Пруст вместе взятые. Чувства и желания – это струны, играя на которых писатель создает симфонию характера. И если уж вы собрались, образно говоря, играть на одной струне человеческой души, эта струна должна звучать выразительно.
Вспомним героиню рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор». Казалось бы, простая обычная русская крестьянка – проще и обычней не бывает. Неразвитая (если не сказать – глупая), забитая, некрасивая, невезучая, проведшая всю жизнь в деревне в бесконечных тяготах и трудах – ну буквально взглядом зацепиться не за что. И желаний, на первый взгляд, вроде бы нет никаких – не столько живет, сколько мучается в приближении смерти. Но писатель, выделив в Матрёне лишь две черты – бескорыстие и ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ долготерпение, создает НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР. Из него к концу рассказа вырастает эпический образ русской женщины-праведницы, без которой, говоря словами Солженицына, не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: