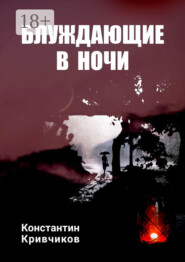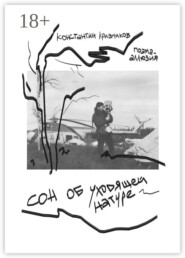По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От идеи до формулы. Технология литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом и заключается дилемма. Колобка не устраивает ситуация, в которой он находится. Но выход из дилеммы всегда неоднозначен с точки зрения последствий. Запомните – дилемма, это всегда сложный, а не простой выбор (типа между лучшим и превосходным). В результате разрешения дилеммы можно что-то приобрести, но и всегда кое-что теряется. А в настоящем драматическом произведении герой рискует потерять все.
И однажды, после очередной ссоры со стариками, Колобок сбегает из дома. То есть дилемма разрешается через выбор – Колобок принимает решение. А перед выбором Колобка ставят старики.
К примеру, ситуация может выглядеть следующим образом. Колобок оканчивает среднюю школу, получает аттестат зрелости и уже навостряет лыжи в город, чтобы поступить там в институт мясомолочной промышленности. И вдруг – облом! Старики говорят: зачем тебе институт и город с его соблазнами? Поработаешь в агрохолдинге, выучишься на тракториста, отслужишь в армии. А перед армией, так и быть, женим тебя, оболтуса, на Пышке, чтобы было кому письма писать во время службы на дальнем пограничье. Пышка невеста завидная, дочь крутого фермера, нарожает тебе детишек… Не жизнь начнется, а малина.
Тут Колобок и понимает – или сейчас, или никогда; или он вырвется на свободу, или так и завязнет по гроб жизни с Пышкой на печи. И дает деру.
Это событие – разговор со стариками – после которого Колобок принимает вынужденное решение, принципиально меняющее его жизнь, в теории называется «сюжетным толчком» или «побуждающим происшествием». С него основные события и начинаются. А в целом вся описанная часть романа относится к завязке.
Цель Колобка – попасть в город и там вволю надышаться воздухом свободы. Но для этого ему нужно прежде выбраться из леса. На пути его поджидают препятствия в виде лесных разбойников Зайца, Волка и Медведя (кликухи у них такие). По ходу заметим, что все эти приключения относятся к сюжетным перипетиям. Колобку удается ускользнуть от злодеев, но кризис нарастает: каждый последующий противник страшнее предыдущего. А если кризис нарастает, это значит, что мы приближаемся к кульминации.
Замечу. Если мы хотим создать по-настоящему увлекательное драматическое произведение, мы должны постоянно помнить о дилемме. В теории это называется «насадить персонажа на вилы дилеммы». В нашем произведении Колобок, сбежав из дома, разрешил дилемму и, тем самым, «соскочил с вил». Так не годится. От Волка и Медведя персонаж сбежать может, но из ежовых рукавиц таких талантливых и умелых авторов, как мы, – ни за что.
Мы должны придумать новую дилемму, а попутно озаботиться внутренним конфликтом. Ведь наш герой еще не сложившийся человек, а юноша, обдумывающий житье. Ему рано превращаться в цельнометаллического, не знающего сомнения, рыцаря без страха и упрека – такому персонажу читатель попросту не поверит, сочтя его картонным. В нашей истории Колобок, сбежав из дома, начинает испытывать муки совести по отношению к старикам, которых он оставил коротать век в одиночестве. Колобок переживает, но тяга к свободе, самостоятельной жизни, столь велика, что он продолжает путь, несмотря на внутренние терзания. То есть, ситуация изменилась, внешнего конфликта со стариками уже нет, а внутренний конфликт в душе Колобка сохранился. И это – правильно!
Но это еще не все. Заставим Колобка переживать еще один внутренний конфликт. Пускай перед каждым новым препятствием (встречей с очередным бандитом), Колобок трусит. Сначала он пугается распальцованного Зайца, но преодолевает страх, благодаря стремлению к свободе. Затем на жизнь Колобка покушается бывалый рецидивист Волк, который куда страшнее приблатненного Зайца, но Колобок и здесь превозмогает страх. А уж при встрече с паханом Медведем наш юный герой и вовсе готов в штаны наложить. Стресс-то ого-го какой, не для маменькиных сынков.
Однако, мобилизовав все душевные и физические силы, Колобок снова выходит победителем (Давид, да и только). Более того. У Медведя шустрый Колобок еще и угоняет мотоцикл с коляской.
А теперь о дилемме. Обратите внимание: каждый раз Колобок не просто сталкивается с препятствием – он разрешает дилемму. В чем заключается дилемма?
У Колобка есть на выбор две возможности, но обе грозят серьезными неприятностями. Он может попытаться преодолеть препятствие – и погибнуть. А может испугаться и вернуться домой, гарантированно сохранив жизнь. Но в этом случае его подымут на смех все деревенские лепешки и булочки. Короче, его ждет позор.
Убежав из дома в поисках свободы, наш Колобок, словно Цезарь, перешел свой Рубикон – и обратной дороги нет. К финалу истории он уже Давид и Гарибальди в одном лице, готовый воскликнуть «Свобода или смерть!» Таким внуком даже Долорес Ибаррури могла бы гордиться.
За счет чего мы добились подобного эффекта? За счет того, что до предела подняли ставки в нашем сюжете. Колобок готов ради достижения цели пожертвовать жизнью – вот до какой степени он ценит свободу. Чем выше риск, тем выше ценность ориентира, выбранного героем в качестве цели, а, значит, и сильнее драматический накал истории, оголенней ее нерв – запомните это, начинающие авторы.
Вот так, разрешая дилемму за дилеммой и преодолевая препятствия, Колобок «катится» по сюжету, приближаясь к кульминации и развязке. И, наконец, они наступают (обе разом), разрушая в прах мечты героя.
Колобку грезится, что цель очень близка. Уже видна между деревьев опушка леса, а за ней – городские окраины. И тут Колобок напарывается на смазливую девицу, голосующую на обочине проселочной дороги.
Юноша думает, что уж эта-то рыжая простушка ему ничем навредить не сможет. Более того, она ему нравится, пробуждая надежды на романтическое приключение. Но здесь и проявляется житейская неопытность Колобка. Девица оказывается серийным маньяком по кличке Лисица Каин со всеми вытекающими последствиями.
Наступает (завершая кульминацию) развязка – Лисица Каин после изощренных пыток в извращенной форме убивает Колобка, затем пускает его упитанное тело (ах, как вкусно готовила бабушка!) на шаурму, которую продает в своей придорожной забегаловке дальнобойщикам. Перед смертью Колобок успевает подумать о том, как он был неправ, сбежав из дома. Но – поздно пить боржоми.
Самое время огласить констатирующую идею нашего нового драматического произведения: безрассудное стремление к свободе приводит к гибели.
Теперь можно подумать и о морали – сказка ведь все-таки. Мораль может быть, к примеру, такой: слушайся старших, а не то огребешь по-полной.
Заодно придумаем название новому произведению. Пусть называется «Роковая ошибка».
Непредвзято сравнив два варианта, мы должны согласиться с тем, что второй вариант не только увлекательнее, но и гораздо внятнее первого. Мы получили на выходе настоящее ДРАМАТИЧЕСКОЕ произведение («Овод» отдыхает) не только с колоритным мотивированным персонажем, но и с четко выраженной моралью. А все благодаря тому, что мы задумались о константе. Из этого не следует, что «Колобок» плохое произведение, упаси Господи. Для детей определенного возраста – просто классика жанра.
Обратите внимание. Стоит поменять один из компонентов истории, и сюжет преобразится. Например, представим, что в основе сюжетного конфликта лежит желание стариков съесть Колобка. Чувствуете, какой триллер может получиться? А если Лисица Каин – вампир-иноагент? Не правда ли – даже дух захватывает!
Уточним для порядка и полной ясности, какой тип констатирующей идеи мы использовали в данном случае. Очевидно, что здесь речь идет об идее противоборствующие силы. Но заметим, что в таком сюжете может быть использован (параллельно) и тип идеи цепная реакция. В этом случае толчок разрастанию конфликта между стариками и Колобком дает конкретная ссора (вариант – происшествие) по какому-то поводу. Например, старики узнают, что их сопливый внучок обрюхатил раньше времени соседнюю Пышку, и собираются по этому случаю как следует всыпать ему ремня… Сюжетная канва воспитательного произведения для подрастающего поколения почти готова. Дерзайте.
Но сделаю важное предостережение – не надо путать константу с замыслом и темой.
Замысел – это прообраз, основа сюжета, вопрос «о чем будет произведение?». Чаще всего замысел начинается с вопроса: «А что если произойдет то-то?»
Тема – это основной предмет повествования, основная проблема, к которой постоянно возвращается повествование, вопросы «чему посвящено данное произведение, что оно описывает, исследует и т.п.?».
Константа – это смысл (главная мысль) произведения, вопросы «для чего существует главный герой, и что хотел доказать автор?».
Замысел прорабатывается и превращается, естественно, в сюжет; тема раскрывается через последовательную цепь основных событий сюжета; константа доказывается на примере изменений, происходящих с героями.
Кроме того, не надо путать идею (во всех смыслах) с моралью. Не будем останавливаться на этом вопросе подробно, ограничимся понятием. Мораль – это то, чему учит данное произведение.
Поясним на примере триллера о Колобке.
Замысел: роман о подростке, который в поиске самостоятельной жизни сбегает из дома и гибнет.
Тема: безрассудное стремление к свободе.
Константа: безрассудное стремление к свободе приводит к гибели.
Мораль (в данном случае – вагон и маленькая тележка): слушайся старших; соизмеряй свои силы; не доверяй рыжим женщинам (лисицам) и т. д.
Процесс создания произведения может начинаться с персонажа, случая (события), истории, темы, идеи – в таком порядке, обратном порядке и в любом порядке. И даже – с морали. Это не принципиально – что именно дает толчок для создания произведения. Авторы – люди разные, творческие, и у любого свои тараканы в голове. Важно правильно понимать, какая роль отводится каждому элементу.
Например, С. Кинг считает, что «лучшие произведения всегда оказываются о людях, а не о событиях, то есть ими двигают характеры, а не ситуации. Но если выйти за пределы короткого рассказа, то я уже не очень верю в исследование характеров; по-моему, в конце концов, главным становится история».
Как видим, понятие «идея» Кинг в этом концептуальном для себя пассаже вообще не употребляет. Он считает, что основу любого произведения составляют персонажи и их история (сюжет). Впрочем, это не противоречит подходу Фрея. Ведь история это и есть рассказ о персонаже, с которым что-то происходит и который, в конце концов, приходит к некоему результату. А если результата нет, то мы имеем дело с разновидностью сказки про белого бычка.
Общая формула
Теперь, обобщая вышеизложенное, перейдем к самой сложной и практической части этой книги. Попробуем, отталкиваясь от сформулированного выше понятия констатирующей идеи (на основе положений Эгри и Фрея), вывести формулу создания драматического произведения (ДП).
Правда, сам Фрей оговаривается, что специальной формулы для создания идеи не существует. А значит, не должно быть и формулы драматического произведения. Но почему бы и не попробовать поверить гармонию алгеброй, если сильно хочется, и лавры Сальери спать не дают?
Однако и я сразу оговорюсь. Не надо воспринимать термин «формула» слишком буквально или формально, как математическую или физическую формулу. Речь идет о законах (принципах) творчества, а они не поддаются полной формализации. Примерно с таким же основанием можно было бы употребить термин «схема» или «структура». Но я употребил термин «формула», потому что он мне показался более точным и обобщающим. Но это – не математика, не физика и, тем более, не химия. Упаси бог!
В общем виде формула драматического произведения (ДП) может выглядеть так:
ДП = Т (тема) + КИ (констатирующая идея)
Знак «равно» в данном случае означает, что содержание драматического произведения раскрывается через содержание темы и констатирующей идеи и задается их параметрами – приблизительно так же, как состав и вкус кулинарного блюда соответствуют основным параметрам рецепта. Просто и доходчиво, не правда ли?
А теперь подробнее.
С темой все более или менее понятно. Собственно, тему даже можно ввести в состав константы, и тогда драматическое произведение в нашей формуле получится равно КИ (как это случается в примитивных остросюжетниках). Но я полагаю такой подход нецелесообразным. Особенно с точки зрения технологии. Поэтому выведем тему за рамки константы, определив тему как отдельный компонент формулы. Хотя бы потому, что с темы может начинаться замысел, и только потом возникает констатирующая идея.
При этом отметим, что тема и константа вещи тесно взаимосвязанные. И тема всегда входит в состав константы через мотивацию героя. В драматическом произведении.
Возьмем, для примера, уже упоминавшуюся драму «Ромео и Джульетта». Ее константу, в частности, можно выразить следующим образом: «Герои (юноша и девушка) страстно полюбили друг друга, и эта великая любовь привела их к смерти». Нетрудно заметить, что если обозначить тему произведения как «великая любовь-страсть», она органично войдет в состав константы, совпадая с мотивацией главных героев.
Но тема может быть и шире мотивации главных действующих лиц, особенно в романах, исследующих социальные конфликты. К примеру, Фрей считает, что константа «Крестного отца» – верность семье приводит к преступлениям. Можно согласиться (пусть и с оговорками) с тем, что доминирующая мотивация главных героев романа (отца и сына) заключается в служении семье, защите ее интересов. Но тема этой гангстерской эпопеи, конечно же, гораздо шире. Её можно сформулировать, в частности, следующим образом: «Фактор семьи в развитии организованной этнической преступности». И тогда тема романа (семья и организованная преступность) органично соединится с его константой через мотивацию героев (верность семье и защита ее интересов).