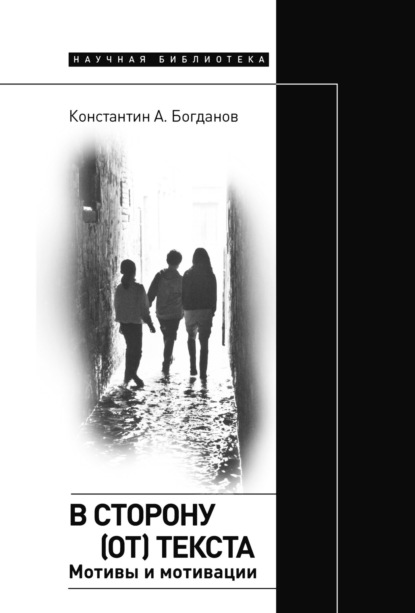По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
Константин Анатольевич Богданов
Научная библиотека
Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Какова грань между случайным и закономерным? Чем мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? В новой книге Константина Богданова эти вопросы ставятся как определяющие суть филологической и историко-культурной работы, важной не только как навык дисциплинарной теории и практики, но также как опыт индивидуальной и коллективной саморефлексии. Если предположить, что интерпретация чего бы то ни было имеет смысл, то у нее должны быть свои причины и следствия. В книгу вошли статьи, посвященные разным темам – литературе, фольклору, научным и религиозным представлениям, коллекционерству и альтернативной медицине, идеологии и (а)социальному поведению, – но все они продиктованы интересом автора к историческим фактам, «свободе воли» и жизненному выбору. Константин Богданов – филолог, историк культуры, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, автор книг «О крокодилах в России», «Фольклорные жанры советской культуры», «Из истории клякс», «Переменные величины», вышедших в издательстве «НЛО».
Константин Богданов
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
© К. Богданов, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
Сходства различий
Вместо предисловия
Я не сразу придумал название этой книжки – и не уверен, что придумал наилучшее, – чтобы объединить статьи, посвященные, казалось бы, разным темам, но общие в исходном для них соображении о том, что примеры из истории социальной и культурной жизни, как и примеры из литературы и других видов искусства, вызывают определенные «внетекстовые» эмоции, но тем самым мотивируют появление новых текстов. Слова, вынесенные в название, – понятия гуманитарных наук, но, как и другие гуманитарные термины, они остаются словами, допускающими их уточнение и переозначивание. Примером тому служит и сама история понятий как научная дисциплина (Begriffsgeschichte), подтверждающая давнее наблюдение, что научные понятия не только обозначают собою нечто, но и работают как инструмент коммуникативного согласия на их использование в том или ином определенном значении. А это значение меняется в зависимости от разных обстоятельств, и прежде всего – от конвергенции и дивергенции самих научных дисциплин, осложняющих одни и те же, казалось бы, понятия различными смысловыми связями в зависимости от технических и, в частности, риторических задач – констатации или, наоборот, вопроса, сомнения или объяснения и т. д.
Свою задачу я видел в проблематизации различного как сходного. Чем определяется внимание к разному и память о разном? Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Чем в этих случаях мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? Если предположить, что интерес к чему бы то ни было имеет смысл, то у него должны быть свои причины и следствия. В конечном счете характер любой интерпретации предопределяется ее прагматическим целесообразием – а значит, усилиями, не исключающими сторонних альтернатив. Поэтому в своем исследовании фактов, событий, произведений и биографий я интуитивно ориентировался на то, что определяет мою собственную память и рефлексию о прошлом и посильную заботу о настоящем – в науке, быту, мире социальных (реальных и воображаемых) отношений.
Большинство статей, составивших эту книгу, уже печатались, но для настоящего издания все они были существенно отредактированы и дополнены новым материалом.
Как и прежде, я глубоко признателен Ирине Прохоровой за возможность издания очередной книги в любимом «НЛО». Я благодарю Татьяну Тимакову и Ольгу Панайотти за внимательную и вдумчивую редактуру текста. Я не называю здесь всех тех, кто помогал мне советами, критикой и подсказками – это был бы длинный список. Всем им, моим друзьям и коллегам, искреннее спасибо!
Прагматика мотива и антропология «Жизненного мира»
…есть нечто, что всегда движет движущееся.
Аристотель. Метафизика
Мотив vs мотивация?
Русский язык разводит понятия мотива и мотивации. Первое чаще встречается в филологии, искусствознании, музыковедении, биологии, второе – в психологии, социологии, экономике и праве, но этимологически и содержательно эти понятия связаны (оба происходят от лат. movere – двигать, побуждать), обозначая собою основание или обстоятельства какого-то действия в ситуациях речи, письма, рисунка, звука, процессе биологической эволюции или в выборе социально-психологической позиции. Можно было бы заметить, что понятие «мотивация» преимущественно (то есть в тех дисциплинах, где оно употребляется терминологически чаще и коммуникативно привычнее, чем слово «мотив») обозначает причину или сцепление причин для какого-то действия, а мотив – прежде всего в филологии и искусствоведении – некоторый «факт», элемент, деталь текста или изображения. Но строгого различения в этих случаях, впрочем, нет (как это имеет место, например, в английском языке: motif vs. motive/motivation), иногда «мотив» синонимичен «мотивации» (так же – в немецком и французском языках) – и это как раз тот случай, который заставляет нелишний раз задуматься о неслучайности их синонимии.
В разных дисциплинах оба эти понятия традиционно подразумевают определенную «простоту» своих формальных признаков – но они же дают повод к уточнению их ситуативного и контекстуального обособления. В результате арсенал терминов, дополняющих сегодня эти понятия, непрестанно множится и уже по одному этому демонстрирует разнообразие возможных критериев, а лучше сказать – ориентиров в понимании того целого, деталями которого они являются. Говоря иначе: мотив и мотивация – это, с одной стороны, то, что останавливает внимание в пространстве подвижной действительности, то, что придает умозрительному и/или очевидному беспорядку причинно-следственную определенность, наделенную структурным и/или смысловым значением. А с другой – то, что высвечивает подвижное соотношение детали и целого.
Основной проблемой в этих случаях является соотношение формальных и содержательных примет. Но что считать критерием, формально достаточным для того, чтобы увидеть в нем и нечто содержательно необходимое? Каковы границы мотива и/или мотивации? Отвлекаясь от психологических аргументов в размышлении о таких границах (например, от того факта, что эмоции имеют зонную структуру и уже потому затрудняют разговор об однозначности тех слов, которыми мы обозначаем и сами эти эмоции)[1 - Винарская Е. Н. К проблеме базовых эмоциональных концептов // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2001. № 2. С. 12–13. Поэтому с лингвистической точки зрения правильнее говорить не об эмоциях, а об эмотивах – словах, обозначающих эмоции: «Эмотив – это всегда метонимия реконструируемой эмоции» (Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М., 2010. С. 87).], мне, как филологу, здесь удобнее сослаться на работы, специально посвященные каталогизации мотивов в литературе и фольклоре. Грандиозным собранием такого рода в последнем случае остается шеститомный «Указатель мотивов народной литературы» Стита Томпсона (1955–1958), в котором под мотивами понимаются и ситуации, и действия, и отдельные персонажи, и предметы – все то, что подразумевает традиционно связываемые с ними истории. Сам Томпсон признавал, что применительно к повествовательной традиции понятие мотива всегда используется «в очень вольном смысле», поскольку «включает в себя любые элементы повествовательной структуры»[2 - Thompson S. Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folk-Tales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Rev. and enl. edn. 6 vols. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1955–1958.]. Критикуя Указатель Томпсона, исследователи настаивали на необходимости более четкого определения. Ведь, и в самом деле, если мы имеем дело с «любыми» элементами повествовательной структуры, то что считать такими элементами – тему, рему, фонетические особенности текста, знаки препинания или, может быть, числа? Интересно, что в размышлении о собственно сказочных мотивах Томпсон был более категоричен: мотив в данном случае определялся им как «наименьший элемент в рассказе, имеющий силу сохраниться в традиции. Чтобы иметь такую силу, в нем должно быть что-то необычное и поразительное»[3 - Thompson S. The Folktale. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977 (1st ed. – 1946). P. 415.]. На первый взгляд, такое определение лучше соотносится с изучением мотивов, как своеобразных «атомов» текста, но на поверку и оно противоречиво: получается, что единственное, что объединяет мотивы, – это их формальная атомарность, но при этом они содержательно различны, поскольку каждый из них необычен и поразителен «чем-то», то есть необычен и поразителен по-разному.
Меньшее, что можно сказать о мотиве, с этой точки зрения, сводится к тавтологии: мотив мотивирован тем, что он может быть выделенным. Но пассивная конструкция обратима к активной: выделение мотива мотивирует к обнажению приемов, обстоятельств, контекстов, которые могут быть воспроизведены как условие его выделения и (пере)повторения. Ситуация такого выделения становится еще более парадоксальной, если учесть, что применительно к той же фольклорной традиции «мотив» может только подразумеваться, но не называться в качестве какого-то одного повторяющегося слова или словосочетания. В замечательной книжке Георгия Мальцева, посвященной традиционным формулам русской народной необрядовой лирики, это убедительно показано на примере формул (которые здесь синонимичны мотивам) «рано», «у реки», «у окна», «сад», «прощание с милым», «пойду с горя в (поле, лес)», «взойду (сяду) на гору», «разгуляться», «смерть» и др. Опознаваемость всех этих мотивов условна, но так или иначе иллюстративна к эстетическому канону русской песенной лирики[4 - Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л.: Наука, 1989. С. 105, след.].
Последнее суждение открыто для критики, поскольку «вычитывание» мотивов оказывается и чем-то вроде их «вчитывания» в традицию и связываемые с нею тексты. Фольклористика, как и любая гуманитарная дисциплина, напоминает в этом случае не только о том, что она нестрогая наука, но и о том, что процедура подобного «вычитывания» и «вчитывания» определяется не только формальными особенностями текста, но и его исследовательской – рефлексивной и эмоциональной – герменевтикой[5 - См. в этой связи резонные и методологически важные размышления С. Ю. Неклюдова: «Выделение мотивов требует специфического препарирования текста – в своем естественном, „сыром“ виде он для подобной операции непригоден. В связи с этим встает ряд вопросов и о процедуре, которую проделывает исследователь, переходя от текста к формулировке мотива, а именно: – Каким образом из текста извлекается информация, необходимая для составления данной формулировки? – Какая часть реального „текстового материала“ при этом используется (например, „ключевые слова“)? – Какие дополнительные („внетекстовые“) сведения нужны для этого? – Как производится выявление инвариантной семантической структуры мотива? Все эти процедуры очень мало отрефлектированы. Исследователь либо берет готовую формулировку из каталога Томпсона <…>, либо конструирует ее сам на основании анализа текста (или текстов), действуя, так сказать, интуитивно. Однако пока мы не поймем, каким образом производятся эти столь привычные для нас операции, мы не продвинемся к постижению структуры мотива и его соотношения с реальным текстом» (Неклюдов С. Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996) / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2004. С. 247).].
Пунктуация как мотив. Многоточие и тире
Об эвристических перспективах подобного понимания можно судить и по литературоведческим работам. Так, например, в работах Юрия Чумакова о поэтике «Евгения Онегина» одним из существенных элементов пушкинского текста объявлялись «пропущенные строфы» и стихи, отмеченные в первом случае прибавлением одной или нескольких цифр к номеру существующей строфы и (выборочно) тройным рядом отточий, а во втором – многоточиями, соответствующими числу пропущенных строк. Читателю, по мнению исследователя, следует считаться с наличием этих пустот как указанием на «существование вероятностного текста ЕО» и, соответственно, безмерную глубину самого романа – ведь «знак неизвестного текста семантически весомее, чем его словесное раскрытие»[6 - Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Гос. Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999. С. 17 (автор ссылается здесь же на мнение Ю. Н. Тынянова, видевшего в «пропущенных» строфах и стихах романа «напряжение нерастраченных динамических элементов»). См. в этой связи лингвистические суждения о многоточиях, позиция которых «в составе предложения и целого текста непредсказуема. Они не могут быть определены четкими правилами, поскольку не связаны с грамматикой текста, с построением синтаксических конструкций, а всецело подчинены эмоциональной и содержательной стороне речи» (Валгина Н. С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. М., 2004. С. 132). Но многоточие способно дезориентировать еще и потому, что за ним могут стоять не паузы со значением тех или иных эмоций, а «лишь идеи этих пауз» (Абакумов С. И. Методика пунктуации. 2?е изд. М., 1950. С. 21). Общий обзор использования многоточия в русской литературе приводит к выводу, что в «пособиях по пунктуации в общей сложности зафиксировано всего 11 функций многоточия, но реальный узус показывает, что знак обладает гораздо большим количеством функций» (Копылова С. А. Функционирование многоточия в русских литературных текстах XVIII–XX веков: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2000. С. 169). Напомню здесь же исторический анекдот о ретивом цензоре середины XIX века: «Действия цензуры превосходят всякое вероятие. <…> Цензор Ахманов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи там помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики» (Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. З62. Запись от 25 февраля 1852 года).].
Стремление видеть в «пропущенных» строфах и стихах «Евгения Онегина» структурно значимую особенность пушкинского произведения, а фактически – один из его мотивов, обнаруживает между тем парадоксы не столько авторской интенции, сколько читательской рецепции – поскольку известно, что почти все «вакантные» строки последнего прижизненного издания романа 1837 года восстанавливаются на основании отдельно (и тоже прижизненно) изданных четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» (1828) и ставших позднее доступными черновых рукописей. Таким образом, из всех типографически «отсутствующих» 294 стихов издания 1837 года современному читателю неизвестны только четыре строфы, или 56 стихов[7 - Типографские «пропуски» в издании 1837 года: 9, 13, 39, 40, 41 строфы 1?й главы, 9–14 стихи в 8?й строфе 2?й главы, 9–14 стихи в 3 строфе 3?й главы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 строфы 4?й главы, 37, 38 строфы 5?й главы, 15, 16, 38 строфы 6?й главы, 8, 39 строфы 7?й главы, 5–14 стихи в 2 строфе и 9–14 стихи в 25 строфе 8?й главе.]. Отсутствие этих строф (39–41?й строфы 1?й главы и 39?й строфы 7?й главы) расценивается комментаторами, соответственно, так:
Не исключено, что пропущенные строфы есть фикция, несущая некоторую мелодическую нагрузку – это обманная задумчивость, придуманный трепет сердца, мираж моря чувств, ложное многоточие ложной недосказанности, возможно, ложный пропуск, имитирующий пропуск автором потока банальных впечатлений (Владимир Набоков)[8 - Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Ред. перевода Н. М. Жутовская. СПб.: Искусство, 1998. С. 185, 511.], пропуск имеет структурно-композиционный смысл, создавая, с одной стороны, временной промежуток, необходимый для обоснования изменений в характере героя, а с другой – эффект противоречивого сочетания подробного повествования («болтовни», по определению Пушкина) и фрагментарности, сдвоенный номер строфы не означает реального пропуска каких-либо стихов – он создает некое временное пространство, поскольку между временем данной строфы и предшествующей прошел «час-другой» (Юрий Лотман)[9 - Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегина»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 166, 328.].
Стоит заметить, что сама возможность в объяснении тех причин, которыми руководствовался Пушкин, обозначавший стихотворные «пропуски» в издании своего романа, определяется прежде всего тем, что последние оформлены типографически – это пропуски в последовательности цифровой нумерации строф и сопутствующий им знак многоточия. Остается удивляться, что ни в одном из комментариев этому обстоятельству не уделяется сколь-либо отдельного внимания; между тем вопрос о правилах пунктуации имел ко времени написания пушкинского текста не только научно-педагогическую, но и эмоционально-стилистическую и собственно литературную предысторию. Сам Пушкин не без иронии упоминал о «пропущенных» строфах своего романа в предисловии к отдельному изданию 8?й главы (1832 года, перепечатанном в издании 1837 года): «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным)». Два примера таких «порицаний» приводит Лотман – отрывок из письма Александра Грибоедова к Фаддею Булгарину и пародию Павла Яковлева, в которых иронически обыгрывалась латинская нумерация отсутствующих строф и глав[10 - Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 166.]. Многоточие в этих примерах не упоминается, но его присутствие в тексте «Евгения Онегина» вполне могло давать повод к такому же «порицанию», недвусмысленно отсылая к традиции литературного сентиментализма.
К 1810?м годам эта традиция – в ретроспективе уже сравнительно многочисленных произведений сентиментального жанра – все еще остается на пике читательского спроса[11 - Пашкуров А. Н. Поздний русский сентиментализм: диалог идиллического и элегического. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2010. Более того: в 1812–1814 годах внимание к традиции сентиментализма приобретает своего рода идеологический характер – «последовательное чтение истории и политики на языке сентиментальной литературы» (Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 56).], но по мере нарастающей инерции сюжетных и стилистических повторений становится все более опознаваемой и привычной мишенью для критики и пародирования[12 - Арзуманова М. Л. Русский сентиментализм в критике 90?х годов XVIII в. // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 197–223; Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб.: Наука, 1994. С. 255–257; Иванов Д. Почему ошибся Державин? Еще раз о комедии Шаховского «Новый Стерн» // Русская филология. Тарту, 2006. № 17. С. 18–24.]. Интересно, что одной из примет этой критики выступает критика сентиментальной пунктуации – нагромождение знаков препинания, призванных графически передать эмоциональный спектр, который к этому времени привычно связывается с эстетикой и этикой сентиментализма – необоримой меланхолией, слезливостью, экзальтацией и недостаточностью слов для выражения чувств и мимолетных мыслей[13 - Щецова Т. Г. Пародийное отражение пунктуационного узуса Н. М. Карамзина // Художественный текст: структура, семантика, стилистика: Сб. науч. ст. к юбилею Е. И. Дибровой. М., 2013. С. 188–197.]. Для современников Пушкина эталонным образцом русского литературного сентиментализма была «Бедная Лиза» Николая Карамзина (1792), давшая старт многочисленным подражаниям и переподражаниям, в которых горестные истории о несчастной любви, сердечной верности и коварстве графически пестрели прежде всего тире и многоточиями.
У Карамзина использование этих знаков видится осознанным приемом литературного стиля – стремлением придать тексту силу переживания, не укладывающегося в границы синтаксиса, формализующего высказывание его логическим завершением[14 - Шапиро А. Б. Основы русской пунктуации. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 139–147; Иванова Н. Ф. О первоначальном употреблении тире в русской печати // Современная русская пунктуация. М.: Наука, 1979. С. 236–254; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Текстологические принципы издания // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Наука, 1984. С. 520.]. История «Бедной Лизы» – история равно рассказанная и недосказанная: читатель, вынужденный останавливаться по ходу авторского изложения, волен только догадываться обо всем, что произошло за текстом, – и это произошедшее, конечно, значительнее всего того, что можно было бы о нем сказать. Само чтение литературы оказывается при этом таким чтением, которое подразумевает жизнь героев за границами текста и вместе с тем олитературивает саму жизнь, наделяет ее литературными темами и мотивами[15 - Ср.: Wolpers Th. Zu Begriff und Geschichte des Motivs «Gelebte Literatur in der Literatur» // Gelebte Literatur in der Literatur: Studien zu Erscheinungsformen und Geschichte eines literarischen Motivs. Bericht ?ber Kolloquien der Komission f?r literaturwissenshaftliche Motiv- und Themenforschung 1983–1985 / Hrsg. Th. von Wolpers. G?ttingen, 1986. S. 7–29.].
Интересно, что лапидарность прозы Карамзина и его последователей позднее будет оцениваться как оборотная сторона необязательного многословия: так, например, по мнению Константина Аксакова, проза Карамзина и его литературных единомышленников «является какой-то бесконечной плетеницей, слова подбираются нужные и ненужные к слову ближайшему, и Карамзинский писатель мог бы, кажется, говорить или вести речь целый век, если бы его не остановили или бы сам он не думал остановиться. Конца в составе речи Карамзинской нет»[16 - Аксаков К. С. О Карамзине. Речь, написанная для произнесения пред Симбирским дворянством (1848) // Русская литература. 1977. № 3. С. 107.]. Недоброжелательное суждение Аксакова примечательно тем, что оно высказано тогда (в 1848 году), когда в русской литературе снова появляются тексты, несопоставимо более обширные и громоздкие, чем короткие тексты Карамзина. Длинноты текстов видятся отныне иными: современная Аксакову литература призвана проговаривать то, о чем сентиментальная литература только обещает сказать, но никогда не говорит достаточно. Нарративная краткость оказывается дискурсивно (и коммуникативно) бесконечной.
Трудно сказать, на кого именно ориентировался Карамзин в выработке своего литературного стиля (помимо общего контекста европейского сентиментализма, объединявшего таких разных, но важных для него авторов, как Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, Жан-Жак Руссо, Соломон Гесснер, графиня де Жанлис)[17 - Виноградов В. В. О стиле Карамзина и его развитии (исправления текста повестей) // Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.; Л.: Наука, 1966. С. 357–358; Сорокин Ю. С. Язык и стиль карамзинской прозы в оценке современников и последующих поколений: 180 лет с начала споров вокруг «нового слога» // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. СПб., 1994. С. 16–57. О роли европейской литературы в творчестве Карамзина: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 2 (XVIII в.). СПб., 1910. С. 491–512; Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век: Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., 1969. С. 210–228; Канунова Ф. З. Карамзин и Стерн // Русская литература XVIII в. и ее международные связи. (XVIII век. Сб. 10). Л.: Наука, 1975. С. 258–264; Кафанова О. Б. Н. М. Карамзин – переводчик Жанлис (французская «нравоучительная сказка» и пути формирования русской сентиментальной повести) // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1982. Вып. 4. С. 96–111; Алпатова Т. Диалог Н. М. Карамзина с литературной традицией Л. Стерна на страницах «Писем русского путешественника» (приемы художественного конструирования «стернианского сюжета») // Acta Univ. lodziensis. Folia litteraria rossica. Lodz, 2012. № 5. С. 9–20.]. В использовании тире он вполне мог следовать Ричардсону – страницы книг которого «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) и «Кларисса, или История молодой леди» (1749) выделялись непривычным обилием тире. В еще большей степени это относится к Стерну: изощренная пунктуация в «Тристраме Шенди» (1759–1767) – длинные многократные тире, надстрочные звездочки, «пропущенные» главы, обозначенные римскими цифрами, разноцветные страницы типографского текста – стала приметой новаторского эксперимента, радикально изменившего представление о визуальной стилистике литературного повествования[18 - Moss R. B. Sterne’s Punctuation // Eighteenth-Century Studies. 1981–1982. Vol. 15. № 2. P. 179–200; Levenston E. A. The Stuff of Literature: Physical Aspects of Texts and Their Relation to Literary Meaning. New York: State University of New York, 1992. P. 72–74. Занятно, что еще один автор, который несомненно произвел сильное впечатление на Карамзина, – Генри Филдинг, автор романа «История Тома Джонса, найденыша» (1749) (о тематических параллелях между романом Филдинга и «Бедной Лизой» Карамзина: Дятлова Н. И. Сопоставительный анализ романа Генри Филдинга «The History of Tom Jones, Foundling» и повести Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза» // Лексикографическая копилка / Под ред. В. В. Гончаровой. СПб: СПбГЭУ, 2019. С. 56–64), был противником именно тире, всячески критикуя и исправляя их в прозе своей сестры Сары Филдинг, использовавшей тире (в сентиментальном романе «The Adventures of David Simple», 1744), по его мнению, эмоционально избыточно и безграмотно, и убрал их из второго издания романа (808 тире в первом издании – 81 тире во втором), вышедшего под его редакцией в том же году: Barchas J. Graphic Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 153–172. Не исключено, что редактура Филдинга (последовательно избегавшего тире в собственных текстах) объяснялась его неприязнью именно к Ричардсону, поэтому он устранял из романа сестры какие-либо следы «пунктуационного влияния» на нее своего главного литературного противника (Sabor P. Introduction // Fielding S. The Adventures of David Simple and Volume the Last. Lexington: The University Press of Kentucky, 1998. P. XXIX).].
Страницы первого издания романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (London, 1759–1767).
Карамзин, не устававший возносить похвалы Стерну, едва ли прошел мимо этих нововведений[19 - См., например, примечание Карамзина к переводу отрывка из «Тристрама Шенди»: «Стерн несравненный! В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?» (Карамзин Н. М. О Стерне (1792) // Карамзин Н. М. Избр. соч. Т. 2. М.; Л.: Худож. лит., 1964. С. 117).]. Но в содержательном следовании правилам русской пунктуации он также мог опираться на лекции и наставления своего университетского профессора (чрезвычайно чтимого им и близко с ним общавшегося) Антона Барсова[20 - Успенский Б. А. Предисловие // Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Под ред. Б. А. Успенского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 13–15; Кобаяси К. А. А. Барсов и Н. М. Карамзин // Русская культура. Токио, 1998. № 5. С. 22–31.]. Рукописная «Российская грамматика» Барсова (1788) стала первым языковедческим руководством, в котором тире (называемое здесь «молчанка» или pausa) получило пунктуационно-семантическую и пунктуационно-произносительную нормативизацию. На письме «молчанка» длиннее, чем знак переноса («черта единитная иди единительная»)[21 - Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. С. 74.].
Молчанка (Pausa) начатую речь прерывает, либо совсем, либо на малое время, для выражения жестокой страсти, либо для приготовления читателя к какому-нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или действию впоследствии, но больше всего служит она к разделению лиц разговаривающих, чтоб не иметь нужды именовать их при каждой перемене их в продолжающемся разговоре.
При чтении вслух «молчанка», по Барсову, требует более долгой задержки речи, чем точка (обязывающая читателя сделать паузу, достаточную, чтобы сосчитать до четырех)[22 - Там же. С. 76.].
У Карамзина тире используется во всех перечисленных Барсовым значениях – но на письме и типографически он его еще более усложняет, делая его не только одиночным, но и двойным и даже тройным. В ряду знаков препинания Барсов не упоминает о многоточии, но Карамзин его также использует – в близком к тире значении пунктуационной эмфазы, как знак внезапного перерыва речи, недоговоренности и задумчивости. Количество точек в многоточии при этом варьирует, но обнаруживает и некоторую формализацию, когда оно (как и тире) связывается с междометием «Ах» и восклицательным знаком (междометие «ах!» – еще один графический и произносительный элемент «Бедной Лизы»: на 39 крупношрифтных страницах малого формата первой публикации повести оно употреблено 29 раз)[23 - Ы. [Карамзин Н. М.] Бедная Лиза // Московский журнал. 1792. Часть VI. Кн. 3. С. 238–277. «Но вдруг вскочила и закричала: ах!..» (С. 248), «когда он приблизился к ней с розовыми губами своими… ах! он поцеловал ее» (С. 255) «…Ах! Лиза, Лиза, где мать твоя?» (С. 263). Схожим образом «Ах» связывается с тире: «– ах! она помнила, что у нее был отец, и что его не стало» (С. 244), «– Ах Эраст! я плакала!» (С. 262).].
На фоне предшествующей русской литературной традиции работа Карамзина над текстом повести предстает реализацией принципа, который можно равно считать графическим и поэтическим: «зрительный» образ текста – избыточно оформленный вспомогательными знаками препинания – поддерживается обособлением фразовых фрагментов, которые уже тем самым наделяются неким дополнительным экспрессивным смыслом. Историко-лингвистический анализ поддерживает это впечатление, обнаруживая новаторство Карамзина не только в отборе и порядке используемых им слов, но и в преобразовании самих грамматических конструкций, подчиненных их предполагаемой соразмерности в границах того или иного текстового сегмента – будь это слова или фразы, составляющие абзац[24 - Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М.: РГГУ, 1995. С. 68–69, 77–78. См. также: Байкова Л. С. Структура и стилистическая направленность бессоюзных предложений в языке Н. М. Карамзина. Таллин: Валгус, 1967; Хютль-Фольтер Г. Связи синтаксиса русского литературного языка с французским синтаксисом XVIII в. Порядок слов в «Письмах из Франции» Фонвизина и новый слог Карамзина // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1997. Bd. 43/1997. S. 103–114.]. В целом особенности пунктуационной графики в «Бедной Лизе» Карамзина создают эффект содержательно «открытого», недосказанного повествования, связанного синтаксисом, который нарочито акцентирует выделение обращений, энергичное перечисление последовательных действий, обособление причастных и деепричастных оборотов, кульминационные паузы главных периодов – и уже поэтому придает самому повествованию ритмико-интонационный характер, схожий с выразительностью поэтического текста[25 - Чупашева О. М. О некоторых пунктуационных особенностях художественной прозы Н. М. Карамзина // Формирование норм русского литературного языка XVIII века. Ижевск, 1994. С. 115–121; Головченко Г. А. Ритм и интонация в характеристике образа героини в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» // Язык. Словесность. Культура. 2016. Т. 6. № 6. С. 29–60. В. Н. Топоров, усмотревший в «Бедной Лизе» преимущественно «дактилический ритм», оговаривается, что «в принципе» повесть Карамзина «столь же дактилична, сколь ямбична и хореична. Само соотношение ритмов в этом случае, строго говоря, не показательно» (Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. С. 72, 69).].
Если учитывать при этом, что чтение литературных произведений вслух было более привычным для эпохи конца XVIII и первых десятилетий XIX века, чем чтение «про себя»[26 - Рейтблат А. И. Чтение вслух как культурная традиция // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 30–35.], то поэтическая выразительность чтения вслух повести Карамзина предстает еще более значимой, как пример поэтики и риторики, выражающей особенности непосредственной коммуникации – силу эмоционального взаимодействия, устанавливаемого между автором и его аудиторией, а также достижение сопереживания, которое, собственно, и определяло собою эстетику и этику сентиментализма – право на искренность чувств и «голос» сердца[27 - Ср.: Sobol V. Nerves, brain, or heart? The physiology of emotions and the mind-body problem in Russian sentimentalism // Russian Review. Syracuse (N. Y.). 2006. Vol. 65. № 1. P. 1–14.].
Для читателей «Бедной Лизы» стилистические и пунктуационные предпочтения Карамзина были особенно непривычны в сравнении с уже имевшимися к тому времени в русской литературе большими, часто многотомными, романами, отличавшимися исключительно подробным изложением приключенческого и/или любовного сюжета[28 - О лексико-стилистическом «перевороте», произведенном Карамзиным в истории русского романа: Скипина К. О чувствительной повести // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л.: Академия, 1926. С. 13–22, 28–31.]. Те же предпочтения резко контрастировали с традицией торжественных од и поэтических панегириков, изобиловавших восклицательными («удивительными», по выражению Ломоносова)[29 - Ломоносов М. В. Российская грамматика. § 134 // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 431.]знаками, но никак не многоточиями и тире[30 - См. запись А. И. Тургенева в дневнике от 31 июля 1803 года: «Ввечеру целый час проговорил со Шлецером и – о чем же? О Ломоносове и Карамзине. <…> Разница видна, примолвил с усмешкой Шлецер, и в числе точек и тире, попадающихся на странице сих двух авторов. У одного вряд на целой странице увидишь более трех периодов и, следовательно, трех точек, у второго – десять и более, не считая тире и восклицательных знаков» (Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники А. И. Тургенева. Вып. 2. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802–1804 г.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805–1811 г. СПб., 1911. С. 243).]. Много лет спустя Николай Греч будет вспоминать о своем детстве в эпоху павловского правления и первом наставнике в изучении языков:
Литературные познания моего учителя, Дмитрия Михайловича Кудлая, франта и модника, были очень ограничены. Он читал с восторгом «Бедную Лизу» и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину[31 - Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 168.].
В подражание Карамзину ревнители связываемого с ним «нового слога» утрировали как лексику, так и стилистику сентиментализма – и, в частности, его пунктуационные приметы. Издатель журнала «Цветник» Александр Измайлов в 1810 году характерно иронизировал на его страницах над «сентиментально-плаксивыми писателями», для которых «нет ничего легче [чем] ставить тире», и пародийно описывал кабинет одного из таких писателей с реестром «разных сочинений, которые он намерен выдать в свет» – одно из них: «Рассуждение о точках и тиретах»[32 - Цветник. 1810. № 2. С. 249; № 5. С. 230. Цит. по: Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. М.: Наука, 1982. С. 231–232.]. Пристрастию к тире и многоточиям верен также герой сатирической «Исповеди бедного стихотворца» (1814), приписываемой юному Пушкину:
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой строчке
«Увы!», и «се», и «ах», «мой Бог!», тире да точки[33 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. С. 313. Известно по копии в сборнике С. А. Соболевского. Обоснование авторства Пушкина: Цявловский M. Забытое стихотворение Пушкина «Исповедь стихотворца» // Новый мир. 1930. № 4. С. 169–174.].
Идиллия «Ручей» Дезульер в издании Oeuvres de Madame des Houlieres (Paris: Desray, 1798) и ее перевод в сборнике: Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым (М., 1807)
Язвительные насмешки по адресу сентиментального лексикона вкупе с сопутствующей ему пунктуацией остаются актуальными и в последующие годы – пока и сам этот лексикон остается востребованным у читателей, воспитанных на Карамзине. Епископ Евгений (Евфимий Болховитинов) неслучайно пенял Державину, едва ли не единственному из поэтов старой школы, кто приветствовал карамзинское направление, что тот злоупотребляет тире[34 - Переписка Евгения с Державиным / Чтения Я. К. Грота. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1868. С. 85 («Еще скажу вам, что в сочинении вашем часто слог слишком отрывен и инде нет связи мыслей и замечаний. Нужно сии места посвязать, а линеечки (тиреты) многие выключить»).]. Еще более оправданно те же упреки могли быть адресованы Алексею Мерзлякову – популярному поэту и профессору-словеснику, одному из самых деятельных членов Общества любителей российской словесности при Московском университете, – многочисленные произведения которого не обходились без постраничных тире и многоточия. О принципиальности такой пунктуации для самого Мерзлякова можно судить по его переводам античной поэзии и особенно «идиллий госпожи Дезульер» (Antoinette Des Houli?res), изданных отдельным сборником (1807), который буквально изобилует экспрессивной пунктуацией, отсутствующей в оригинальном тексте[35 - Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым. М.: В тип. Платона Бекетова, 1807. Во французских изданиях, которыми мог пользоваться Мерзляков (например: Cuvres de Madame des Houli?res. Tome 1. Paris: Desray, 1798), многоточия – единичны, а тире отсутствуют вовсе. У Мерзлякова и те и другие – постраничны (зачастую через одну-две строки).].
Михаил Погодин, прочитавший в 1820 году торжественную оду юного ученика Мерзлякова Федора Тютчева «Урания», оставил дневниковую запись от прочитанного:
Каждый стих отдельно хорош, а все вместе составляют такую бестолковщину, какой примера редко найти можно. Я вспомнил слова Кубарева: Если у [… ] наших поэтов отнять было право ставить тиреты и точки во множестве, то у нас по крайней мере в пятеро было бы менее стихотворений. Нет ничего справедливее этого. Теперь поставят несколько [… ] точек, потом совсем другая мысль без всякого отношения к предыдущей, и ничего сказать нельзя против, потому что не понимаешь[36 - Запись от 26 июля. Цит. по: Рогов К. Вариации «Московского текста»: К истории отношений Ф. И. Тютчева и М. П. Погодина // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 68–106. https://www.ruthenia.ru/document/202591.html. «Урания» была прочитана Тютчевым на торжественном собрании Московского университета 6 июля 1820 года, на котором присутствовал и Погодин. Прочитать – и, соответственно, увидеть количество тире и многоточий – он мог по одновременным изданиям: Речи и отчеты имп. Московского университета. 1820. С. 1–6 (тогда же напечатана отдельным оттиском с титульным листом в типографии Московского университета).].
Основания для критики у Погодина были: на 194 стиха «Урании» насчитывается 26 многоточий и 39 тире. Новомодная пунктуация раздражала и Александра Шишкова, давнишнего оппонента Карамзина и его литературных единомышленников. В 1821 году в письме к И. И. Дмитриеву он критикует перевод Вергилия, выполненный Семеном Раичем (который, как и Мерзляков, был университетским наставником Тютчева), и особенно негодует на встречающиеся в нем тире: «Черточки (тире) есть также новое изобретение, показующее больше упадок, нежели возвышение ума. Оне, сколько их не наставь, не прибавляют ничего к ясности смысла и силе выражения»[37 - Письма разных лиц к И. И. Дмитриеву. М., 1867. С. 10. Письмо от 13 сентября 1821 г.].
В вышедшем в том же году «Словаре древней и новой поэзии» Николая Остолопова понятие «Удержание» (Reticentia, Aposiopesis) объяснялось как пропуск («выпуск»), обозначенный на письме многоточием, «одного или многих слов, необходимых в предложении по словосочинению». «У новейших наших стихотворцев, – замечалось здесь же, – фигура сия в большом употреблении». «Однако ж надлежит наблюдать, чтобы такие выпуски не затмевали смысла»[38 - Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. Ч. 3. СПб.: Тип. Имп. Рос. Академии, 1821. С. 435.].
Литературно-поэтическая практика в употреблении многоточия и тире со временем уравновешивается их ученой нормативизацией. В 1820–1830?е годы об их надлежащем употреблении пишут филологи Евграф Филомафитский (расценивавший тире как наименее значимый и малообязательный знак препинания, а многоточие – как знак вообще лишний и подлежащий исключению из грамматики)[39 - Филомафитский Е. О знаках препинания вообще и в особенности для российской словесности // Труды общества любителей российской словесности. Ч. 2. 1822. С. 72–134.], Александр Востоков (определявший многоточие как знак «пресекательный», а тире – как знак «мыслеотделительный»)[40 - Востоков А. Х. Русская грамматика. СПб., 1831. С. 318. В последнем случае Востоков следует немецкому термину, обозначающему тире: Gedankenstrich.] и упоминавшийся выше Николай Греч, полагавший оба эти знака «вспомогательными» «в случае недостаточности прочих знаков» – с тем, впрочем, различием, что многоточием «означается неожиданное прерывание речи», а тире – «между периодами, окончанными точкою, для показания, что они не состоят в логической между собою связи» и «при всяком неожиданном переходе в предложении»[41 - Греч Н. Практическая русская грамматика. 2?е изд. СПб., 1834. С. 512, 524. (1?е изд. – 1827 года).].
Константин Анатольевич Богданов
Научная библиотека
Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Какова грань между случайным и закономерным? Чем мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? В новой книге Константина Богданова эти вопросы ставятся как определяющие суть филологической и историко-культурной работы, важной не только как навык дисциплинарной теории и практики, но также как опыт индивидуальной и коллективной саморефлексии. Если предположить, что интерпретация чего бы то ни было имеет смысл, то у нее должны быть свои причины и следствия. В книгу вошли статьи, посвященные разным темам – литературе, фольклору, научным и религиозным представлениям, коллекционерству и альтернативной медицине, идеологии и (а)социальному поведению, – но все они продиктованы интересом автора к историческим фактам, «свободе воли» и жизненному выбору. Константин Богданов – филолог, историк культуры, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, автор книг «О крокодилах в России», «Фольклорные жанры советской культуры», «Из истории клякс», «Переменные величины», вышедших в издательстве «НЛО».
Константин Богданов
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
© К. Богданов, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
Сходства различий
Вместо предисловия
Я не сразу придумал название этой книжки – и не уверен, что придумал наилучшее, – чтобы объединить статьи, посвященные, казалось бы, разным темам, но общие в исходном для них соображении о том, что примеры из истории социальной и культурной жизни, как и примеры из литературы и других видов искусства, вызывают определенные «внетекстовые» эмоции, но тем самым мотивируют появление новых текстов. Слова, вынесенные в название, – понятия гуманитарных наук, но, как и другие гуманитарные термины, они остаются словами, допускающими их уточнение и переозначивание. Примером тому служит и сама история понятий как научная дисциплина (Begriffsgeschichte), подтверждающая давнее наблюдение, что научные понятия не только обозначают собою нечто, но и работают как инструмент коммуникативного согласия на их использование в том или ином определенном значении. А это значение меняется в зависимости от разных обстоятельств, и прежде всего – от конвергенции и дивергенции самих научных дисциплин, осложняющих одни и те же, казалось бы, понятия различными смысловыми связями в зависимости от технических и, в частности, риторических задач – констатации или, наоборот, вопроса, сомнения или объяснения и т. д.
Свою задачу я видел в проблематизации различного как сходного. Чем определяется внимание к разному и память о разном? Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Чем в этих случаях мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? Если предположить, что интерес к чему бы то ни было имеет смысл, то у него должны быть свои причины и следствия. В конечном счете характер любой интерпретации предопределяется ее прагматическим целесообразием – а значит, усилиями, не исключающими сторонних альтернатив. Поэтому в своем исследовании фактов, событий, произведений и биографий я интуитивно ориентировался на то, что определяет мою собственную память и рефлексию о прошлом и посильную заботу о настоящем – в науке, быту, мире социальных (реальных и воображаемых) отношений.
Большинство статей, составивших эту книгу, уже печатались, но для настоящего издания все они были существенно отредактированы и дополнены новым материалом.
Как и прежде, я глубоко признателен Ирине Прохоровой за возможность издания очередной книги в любимом «НЛО». Я благодарю Татьяну Тимакову и Ольгу Панайотти за внимательную и вдумчивую редактуру текста. Я не называю здесь всех тех, кто помогал мне советами, критикой и подсказками – это был бы длинный список. Всем им, моим друзьям и коллегам, искреннее спасибо!
Прагматика мотива и антропология «Жизненного мира»
…есть нечто, что всегда движет движущееся.
Аристотель. Метафизика
Мотив vs мотивация?
Русский язык разводит понятия мотива и мотивации. Первое чаще встречается в филологии, искусствознании, музыковедении, биологии, второе – в психологии, социологии, экономике и праве, но этимологически и содержательно эти понятия связаны (оба происходят от лат. movere – двигать, побуждать), обозначая собою основание или обстоятельства какого-то действия в ситуациях речи, письма, рисунка, звука, процессе биологической эволюции или в выборе социально-психологической позиции. Можно было бы заметить, что понятие «мотивация» преимущественно (то есть в тех дисциплинах, где оно употребляется терминологически чаще и коммуникативно привычнее, чем слово «мотив») обозначает причину или сцепление причин для какого-то действия, а мотив – прежде всего в филологии и искусствоведении – некоторый «факт», элемент, деталь текста или изображения. Но строгого различения в этих случаях, впрочем, нет (как это имеет место, например, в английском языке: motif vs. motive/motivation), иногда «мотив» синонимичен «мотивации» (так же – в немецком и французском языках) – и это как раз тот случай, который заставляет нелишний раз задуматься о неслучайности их синонимии.
В разных дисциплинах оба эти понятия традиционно подразумевают определенную «простоту» своих формальных признаков – но они же дают повод к уточнению их ситуативного и контекстуального обособления. В результате арсенал терминов, дополняющих сегодня эти понятия, непрестанно множится и уже по одному этому демонстрирует разнообразие возможных критериев, а лучше сказать – ориентиров в понимании того целого, деталями которого они являются. Говоря иначе: мотив и мотивация – это, с одной стороны, то, что останавливает внимание в пространстве подвижной действительности, то, что придает умозрительному и/или очевидному беспорядку причинно-следственную определенность, наделенную структурным и/или смысловым значением. А с другой – то, что высвечивает подвижное соотношение детали и целого.
Основной проблемой в этих случаях является соотношение формальных и содержательных примет. Но что считать критерием, формально достаточным для того, чтобы увидеть в нем и нечто содержательно необходимое? Каковы границы мотива и/или мотивации? Отвлекаясь от психологических аргументов в размышлении о таких границах (например, от того факта, что эмоции имеют зонную структуру и уже потому затрудняют разговор об однозначности тех слов, которыми мы обозначаем и сами эти эмоции)[1 - Винарская Е. Н. К проблеме базовых эмоциональных концептов // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2001. № 2. С. 12–13. Поэтому с лингвистической точки зрения правильнее говорить не об эмоциях, а об эмотивах – словах, обозначающих эмоции: «Эмотив – это всегда метонимия реконструируемой эмоции» (Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М., 2010. С. 87).], мне, как филологу, здесь удобнее сослаться на работы, специально посвященные каталогизации мотивов в литературе и фольклоре. Грандиозным собранием такого рода в последнем случае остается шеститомный «Указатель мотивов народной литературы» Стита Томпсона (1955–1958), в котором под мотивами понимаются и ситуации, и действия, и отдельные персонажи, и предметы – все то, что подразумевает традиционно связываемые с ними истории. Сам Томпсон признавал, что применительно к повествовательной традиции понятие мотива всегда используется «в очень вольном смысле», поскольку «включает в себя любые элементы повествовательной структуры»[2 - Thompson S. Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folk-Tales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Rev. and enl. edn. 6 vols. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1955–1958.]. Критикуя Указатель Томпсона, исследователи настаивали на необходимости более четкого определения. Ведь, и в самом деле, если мы имеем дело с «любыми» элементами повествовательной структуры, то что считать такими элементами – тему, рему, фонетические особенности текста, знаки препинания или, может быть, числа? Интересно, что в размышлении о собственно сказочных мотивах Томпсон был более категоричен: мотив в данном случае определялся им как «наименьший элемент в рассказе, имеющий силу сохраниться в традиции. Чтобы иметь такую силу, в нем должно быть что-то необычное и поразительное»[3 - Thompson S. The Folktale. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977 (1st ed. – 1946). P. 415.]. На первый взгляд, такое определение лучше соотносится с изучением мотивов, как своеобразных «атомов» текста, но на поверку и оно противоречиво: получается, что единственное, что объединяет мотивы, – это их формальная атомарность, но при этом они содержательно различны, поскольку каждый из них необычен и поразителен «чем-то», то есть необычен и поразителен по-разному.
Меньшее, что можно сказать о мотиве, с этой точки зрения, сводится к тавтологии: мотив мотивирован тем, что он может быть выделенным. Но пассивная конструкция обратима к активной: выделение мотива мотивирует к обнажению приемов, обстоятельств, контекстов, которые могут быть воспроизведены как условие его выделения и (пере)повторения. Ситуация такого выделения становится еще более парадоксальной, если учесть, что применительно к той же фольклорной традиции «мотив» может только подразумеваться, но не называться в качестве какого-то одного повторяющегося слова или словосочетания. В замечательной книжке Георгия Мальцева, посвященной традиционным формулам русской народной необрядовой лирики, это убедительно показано на примере формул (которые здесь синонимичны мотивам) «рано», «у реки», «у окна», «сад», «прощание с милым», «пойду с горя в (поле, лес)», «взойду (сяду) на гору», «разгуляться», «смерть» и др. Опознаваемость всех этих мотивов условна, но так или иначе иллюстративна к эстетическому канону русской песенной лирики[4 - Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л.: Наука, 1989. С. 105, след.].
Последнее суждение открыто для критики, поскольку «вычитывание» мотивов оказывается и чем-то вроде их «вчитывания» в традицию и связываемые с нею тексты. Фольклористика, как и любая гуманитарная дисциплина, напоминает в этом случае не только о том, что она нестрогая наука, но и о том, что процедура подобного «вычитывания» и «вчитывания» определяется не только формальными особенностями текста, но и его исследовательской – рефлексивной и эмоциональной – герменевтикой[5 - См. в этой связи резонные и методологически важные размышления С. Ю. Неклюдова: «Выделение мотивов требует специфического препарирования текста – в своем естественном, „сыром“ виде он для подобной операции непригоден. В связи с этим встает ряд вопросов и о процедуре, которую проделывает исследователь, переходя от текста к формулировке мотива, а именно: – Каким образом из текста извлекается информация, необходимая для составления данной формулировки? – Какая часть реального „текстового материала“ при этом используется (например, „ключевые слова“)? – Какие дополнительные („внетекстовые“) сведения нужны для этого? – Как производится выявление инвариантной семантической структуры мотива? Все эти процедуры очень мало отрефлектированы. Исследователь либо берет готовую формулировку из каталога Томпсона <…>, либо конструирует ее сам на основании анализа текста (или текстов), действуя, так сказать, интуитивно. Однако пока мы не поймем, каким образом производятся эти столь привычные для нас операции, мы не продвинемся к постижению структуры мотива и его соотношения с реальным текстом» (Неклюдов С. Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996) / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2004. С. 247).].
Пунктуация как мотив. Многоточие и тире
Об эвристических перспективах подобного понимания можно судить и по литературоведческим работам. Так, например, в работах Юрия Чумакова о поэтике «Евгения Онегина» одним из существенных элементов пушкинского текста объявлялись «пропущенные строфы» и стихи, отмеченные в первом случае прибавлением одной или нескольких цифр к номеру существующей строфы и (выборочно) тройным рядом отточий, а во втором – многоточиями, соответствующими числу пропущенных строк. Читателю, по мнению исследователя, следует считаться с наличием этих пустот как указанием на «существование вероятностного текста ЕО» и, соответственно, безмерную глубину самого романа – ведь «знак неизвестного текста семантически весомее, чем его словесное раскрытие»[6 - Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Гос. Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999. С. 17 (автор ссылается здесь же на мнение Ю. Н. Тынянова, видевшего в «пропущенных» строфах и стихах романа «напряжение нерастраченных динамических элементов»). См. в этой связи лингвистические суждения о многоточиях, позиция которых «в составе предложения и целого текста непредсказуема. Они не могут быть определены четкими правилами, поскольку не связаны с грамматикой текста, с построением синтаксических конструкций, а всецело подчинены эмоциональной и содержательной стороне речи» (Валгина Н. С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. М., 2004. С. 132). Но многоточие способно дезориентировать еще и потому, что за ним могут стоять не паузы со значением тех или иных эмоций, а «лишь идеи этих пауз» (Абакумов С. И. Методика пунктуации. 2?е изд. М., 1950. С. 21). Общий обзор использования многоточия в русской литературе приводит к выводу, что в «пособиях по пунктуации в общей сложности зафиксировано всего 11 функций многоточия, но реальный узус показывает, что знак обладает гораздо большим количеством функций» (Копылова С. А. Функционирование многоточия в русских литературных текстах XVIII–XX веков: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2000. С. 169). Напомню здесь же исторический анекдот о ретивом цензоре середины XIX века: «Действия цензуры превосходят всякое вероятие. <…> Цензор Ахманов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи там помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики» (Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. З62. Запись от 25 февраля 1852 года).].
Стремление видеть в «пропущенных» строфах и стихах «Евгения Онегина» структурно значимую особенность пушкинского произведения, а фактически – один из его мотивов, обнаруживает между тем парадоксы не столько авторской интенции, сколько читательской рецепции – поскольку известно, что почти все «вакантные» строки последнего прижизненного издания романа 1837 года восстанавливаются на основании отдельно (и тоже прижизненно) изданных четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» (1828) и ставших позднее доступными черновых рукописей. Таким образом, из всех типографически «отсутствующих» 294 стихов издания 1837 года современному читателю неизвестны только четыре строфы, или 56 стихов[7 - Типографские «пропуски» в издании 1837 года: 9, 13, 39, 40, 41 строфы 1?й главы, 9–14 стихи в 8?й строфе 2?й главы, 9–14 стихи в 3 строфе 3?й главы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 строфы 4?й главы, 37, 38 строфы 5?й главы, 15, 16, 38 строфы 6?й главы, 8, 39 строфы 7?й главы, 5–14 стихи в 2 строфе и 9–14 стихи в 25 строфе 8?й главе.]. Отсутствие этих строф (39–41?й строфы 1?й главы и 39?й строфы 7?й главы) расценивается комментаторами, соответственно, так:
Не исключено, что пропущенные строфы есть фикция, несущая некоторую мелодическую нагрузку – это обманная задумчивость, придуманный трепет сердца, мираж моря чувств, ложное многоточие ложной недосказанности, возможно, ложный пропуск, имитирующий пропуск автором потока банальных впечатлений (Владимир Набоков)[8 - Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Ред. перевода Н. М. Жутовская. СПб.: Искусство, 1998. С. 185, 511.], пропуск имеет структурно-композиционный смысл, создавая, с одной стороны, временной промежуток, необходимый для обоснования изменений в характере героя, а с другой – эффект противоречивого сочетания подробного повествования («болтовни», по определению Пушкина) и фрагментарности, сдвоенный номер строфы не означает реального пропуска каких-либо стихов – он создает некое временное пространство, поскольку между временем данной строфы и предшествующей прошел «час-другой» (Юрий Лотман)[9 - Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегина»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 166, 328.].
Стоит заметить, что сама возможность в объяснении тех причин, которыми руководствовался Пушкин, обозначавший стихотворные «пропуски» в издании своего романа, определяется прежде всего тем, что последние оформлены типографически – это пропуски в последовательности цифровой нумерации строф и сопутствующий им знак многоточия. Остается удивляться, что ни в одном из комментариев этому обстоятельству не уделяется сколь-либо отдельного внимания; между тем вопрос о правилах пунктуации имел ко времени написания пушкинского текста не только научно-педагогическую, но и эмоционально-стилистическую и собственно литературную предысторию. Сам Пушкин не без иронии упоминал о «пропущенных» строфах своего романа в предисловии к отдельному изданию 8?й главы (1832 года, перепечатанном в издании 1837 года): «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным)». Два примера таких «порицаний» приводит Лотман – отрывок из письма Александра Грибоедова к Фаддею Булгарину и пародию Павла Яковлева, в которых иронически обыгрывалась латинская нумерация отсутствующих строф и глав[10 - Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 166.]. Многоточие в этих примерах не упоминается, но его присутствие в тексте «Евгения Онегина» вполне могло давать повод к такому же «порицанию», недвусмысленно отсылая к традиции литературного сентиментализма.
К 1810?м годам эта традиция – в ретроспективе уже сравнительно многочисленных произведений сентиментального жанра – все еще остается на пике читательского спроса[11 - Пашкуров А. Н. Поздний русский сентиментализм: диалог идиллического и элегического. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2010. Более того: в 1812–1814 годах внимание к традиции сентиментализма приобретает своего рода идеологический характер – «последовательное чтение истории и политики на языке сентиментальной литературы» (Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 56).], но по мере нарастающей инерции сюжетных и стилистических повторений становится все более опознаваемой и привычной мишенью для критики и пародирования[12 - Арзуманова М. Л. Русский сентиментализм в критике 90?х годов XVIII в. // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 197–223; Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб.: Наука, 1994. С. 255–257; Иванов Д. Почему ошибся Державин? Еще раз о комедии Шаховского «Новый Стерн» // Русская филология. Тарту, 2006. № 17. С. 18–24.]. Интересно, что одной из примет этой критики выступает критика сентиментальной пунктуации – нагромождение знаков препинания, призванных графически передать эмоциональный спектр, который к этому времени привычно связывается с эстетикой и этикой сентиментализма – необоримой меланхолией, слезливостью, экзальтацией и недостаточностью слов для выражения чувств и мимолетных мыслей[13 - Щецова Т. Г. Пародийное отражение пунктуационного узуса Н. М. Карамзина // Художественный текст: структура, семантика, стилистика: Сб. науч. ст. к юбилею Е. И. Дибровой. М., 2013. С. 188–197.]. Для современников Пушкина эталонным образцом русского литературного сентиментализма была «Бедная Лиза» Николая Карамзина (1792), давшая старт многочисленным подражаниям и переподражаниям, в которых горестные истории о несчастной любви, сердечной верности и коварстве графически пестрели прежде всего тире и многоточиями.
У Карамзина использование этих знаков видится осознанным приемом литературного стиля – стремлением придать тексту силу переживания, не укладывающегося в границы синтаксиса, формализующего высказывание его логическим завершением[14 - Шапиро А. Б. Основы русской пунктуации. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 139–147; Иванова Н. Ф. О первоначальном употреблении тире в русской печати // Современная русская пунктуация. М.: Наука, 1979. С. 236–254; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Текстологические принципы издания // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Наука, 1984. С. 520.]. История «Бедной Лизы» – история равно рассказанная и недосказанная: читатель, вынужденный останавливаться по ходу авторского изложения, волен только догадываться обо всем, что произошло за текстом, – и это произошедшее, конечно, значительнее всего того, что можно было бы о нем сказать. Само чтение литературы оказывается при этом таким чтением, которое подразумевает жизнь героев за границами текста и вместе с тем олитературивает саму жизнь, наделяет ее литературными темами и мотивами[15 - Ср.: Wolpers Th. Zu Begriff und Geschichte des Motivs «Gelebte Literatur in der Literatur» // Gelebte Literatur in der Literatur: Studien zu Erscheinungsformen und Geschichte eines literarischen Motivs. Bericht ?ber Kolloquien der Komission f?r literaturwissenshaftliche Motiv- und Themenforschung 1983–1985 / Hrsg. Th. von Wolpers. G?ttingen, 1986. S. 7–29.].
Интересно, что лапидарность прозы Карамзина и его последователей позднее будет оцениваться как оборотная сторона необязательного многословия: так, например, по мнению Константина Аксакова, проза Карамзина и его литературных единомышленников «является какой-то бесконечной плетеницей, слова подбираются нужные и ненужные к слову ближайшему, и Карамзинский писатель мог бы, кажется, говорить или вести речь целый век, если бы его не остановили или бы сам он не думал остановиться. Конца в составе речи Карамзинской нет»[16 - Аксаков К. С. О Карамзине. Речь, написанная для произнесения пред Симбирским дворянством (1848) // Русская литература. 1977. № 3. С. 107.]. Недоброжелательное суждение Аксакова примечательно тем, что оно высказано тогда (в 1848 году), когда в русской литературе снова появляются тексты, несопоставимо более обширные и громоздкие, чем короткие тексты Карамзина. Длинноты текстов видятся отныне иными: современная Аксакову литература призвана проговаривать то, о чем сентиментальная литература только обещает сказать, но никогда не говорит достаточно. Нарративная краткость оказывается дискурсивно (и коммуникативно) бесконечной.
Трудно сказать, на кого именно ориентировался Карамзин в выработке своего литературного стиля (помимо общего контекста европейского сентиментализма, объединявшего таких разных, но важных для него авторов, как Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, Жан-Жак Руссо, Соломон Гесснер, графиня де Жанлис)[17 - Виноградов В. В. О стиле Карамзина и его развитии (исправления текста повестей) // Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.; Л.: Наука, 1966. С. 357–358; Сорокин Ю. С. Язык и стиль карамзинской прозы в оценке современников и последующих поколений: 180 лет с начала споров вокруг «нового слога» // Очерки по стилистике русских литературно-художественных и научных произведений XVIII – начала XIX в. СПб., 1994. С. 16–57. О роли европейской литературы в творчестве Карамзина: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. Т. 1. Вып. 2 (XVIII в.). СПб., 1910. С. 491–512; Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век: Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., 1969. С. 210–228; Канунова Ф. З. Карамзин и Стерн // Русская литература XVIII в. и ее международные связи. (XVIII век. Сб. 10). Л.: Наука, 1975. С. 258–264; Кафанова О. Б. Н. М. Карамзин – переводчик Жанлис (французская «нравоучительная сказка» и пути формирования русской сентиментальной повести) // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1982. Вып. 4. С. 96–111; Алпатова Т. Диалог Н. М. Карамзина с литературной традицией Л. Стерна на страницах «Писем русского путешественника» (приемы художественного конструирования «стернианского сюжета») // Acta Univ. lodziensis. Folia litteraria rossica. Lodz, 2012. № 5. С. 9–20.]. В использовании тире он вполне мог следовать Ричардсону – страницы книг которого «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) и «Кларисса, или История молодой леди» (1749) выделялись непривычным обилием тире. В еще большей степени это относится к Стерну: изощренная пунктуация в «Тристраме Шенди» (1759–1767) – длинные многократные тире, надстрочные звездочки, «пропущенные» главы, обозначенные римскими цифрами, разноцветные страницы типографского текста – стала приметой новаторского эксперимента, радикально изменившего представление о визуальной стилистике литературного повествования[18 - Moss R. B. Sterne’s Punctuation // Eighteenth-Century Studies. 1981–1982. Vol. 15. № 2. P. 179–200; Levenston E. A. The Stuff of Literature: Physical Aspects of Texts and Their Relation to Literary Meaning. New York: State University of New York, 1992. P. 72–74. Занятно, что еще один автор, который несомненно произвел сильное впечатление на Карамзина, – Генри Филдинг, автор романа «История Тома Джонса, найденыша» (1749) (о тематических параллелях между романом Филдинга и «Бедной Лизой» Карамзина: Дятлова Н. И. Сопоставительный анализ романа Генри Филдинга «The History of Tom Jones, Foundling» и повести Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза» // Лексикографическая копилка / Под ред. В. В. Гончаровой. СПб: СПбГЭУ, 2019. С. 56–64), был противником именно тире, всячески критикуя и исправляя их в прозе своей сестры Сары Филдинг, использовавшей тире (в сентиментальном романе «The Adventures of David Simple», 1744), по его мнению, эмоционально избыточно и безграмотно, и убрал их из второго издания романа (808 тире в первом издании – 81 тире во втором), вышедшего под его редакцией в том же году: Barchas J. Graphic Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 153–172. Не исключено, что редактура Филдинга (последовательно избегавшего тире в собственных текстах) объяснялась его неприязнью именно к Ричардсону, поэтому он устранял из романа сестры какие-либо следы «пунктуационного влияния» на нее своего главного литературного противника (Sabor P. Introduction // Fielding S. The Adventures of David Simple and Volume the Last. Lexington: The University Press of Kentucky, 1998. P. XXIX).].
Страницы первого издания романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (London, 1759–1767).
Карамзин, не устававший возносить похвалы Стерну, едва ли прошел мимо этих нововведений[19 - См., например, примечание Карамзина к переводу отрывка из «Тристрама Шенди»: «Стерн несравненный! В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?» (Карамзин Н. М. О Стерне (1792) // Карамзин Н. М. Избр. соч. Т. 2. М.; Л.: Худож. лит., 1964. С. 117).]. Но в содержательном следовании правилам русской пунктуации он также мог опираться на лекции и наставления своего университетского профессора (чрезвычайно чтимого им и близко с ним общавшегося) Антона Барсова[20 - Успенский Б. А. Предисловие // Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Под ред. Б. А. Успенского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 13–15; Кобаяси К. А. А. Барсов и Н. М. Карамзин // Русская культура. Токио, 1998. № 5. С. 22–31.]. Рукописная «Российская грамматика» Барсова (1788) стала первым языковедческим руководством, в котором тире (называемое здесь «молчанка» или pausa) получило пунктуационно-семантическую и пунктуационно-произносительную нормативизацию. На письме «молчанка» длиннее, чем знак переноса («черта единитная иди единительная»)[21 - Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. С. 74.].
Молчанка (Pausa) начатую речь прерывает, либо совсем, либо на малое время, для выражения жестокой страсти, либо для приготовления читателя к какому-нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или действию впоследствии, но больше всего служит она к разделению лиц разговаривающих, чтоб не иметь нужды именовать их при каждой перемене их в продолжающемся разговоре.
При чтении вслух «молчанка», по Барсову, требует более долгой задержки речи, чем точка (обязывающая читателя сделать паузу, достаточную, чтобы сосчитать до четырех)[22 - Там же. С. 76.].
У Карамзина тире используется во всех перечисленных Барсовым значениях – но на письме и типографически он его еще более усложняет, делая его не только одиночным, но и двойным и даже тройным. В ряду знаков препинания Барсов не упоминает о многоточии, но Карамзин его также использует – в близком к тире значении пунктуационной эмфазы, как знак внезапного перерыва речи, недоговоренности и задумчивости. Количество точек в многоточии при этом варьирует, но обнаруживает и некоторую формализацию, когда оно (как и тире) связывается с междометием «Ах» и восклицательным знаком (междометие «ах!» – еще один графический и произносительный элемент «Бедной Лизы»: на 39 крупношрифтных страницах малого формата первой публикации повести оно употреблено 29 раз)[23 - Ы. [Карамзин Н. М.] Бедная Лиза // Московский журнал. 1792. Часть VI. Кн. 3. С. 238–277. «Но вдруг вскочила и закричала: ах!..» (С. 248), «когда он приблизился к ней с розовыми губами своими… ах! он поцеловал ее» (С. 255) «…Ах! Лиза, Лиза, где мать твоя?» (С. 263). Схожим образом «Ах» связывается с тире: «– ах! она помнила, что у нее был отец, и что его не стало» (С. 244), «– Ах Эраст! я плакала!» (С. 262).].
На фоне предшествующей русской литературной традиции работа Карамзина над текстом повести предстает реализацией принципа, который можно равно считать графическим и поэтическим: «зрительный» образ текста – избыточно оформленный вспомогательными знаками препинания – поддерживается обособлением фразовых фрагментов, которые уже тем самым наделяются неким дополнительным экспрессивным смыслом. Историко-лингвистический анализ поддерживает это впечатление, обнаруживая новаторство Карамзина не только в отборе и порядке используемых им слов, но и в преобразовании самих грамматических конструкций, подчиненных их предполагаемой соразмерности в границах того или иного текстового сегмента – будь это слова или фразы, составляющие абзац[24 - Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М.: РГГУ, 1995. С. 68–69, 77–78. См. также: Байкова Л. С. Структура и стилистическая направленность бессоюзных предложений в языке Н. М. Карамзина. Таллин: Валгус, 1967; Хютль-Фольтер Г. Связи синтаксиса русского литературного языка с французским синтаксисом XVIII в. Порядок слов в «Письмах из Франции» Фонвизина и новый слог Карамзина // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1997. Bd. 43/1997. S. 103–114.]. В целом особенности пунктуационной графики в «Бедной Лизе» Карамзина создают эффект содержательно «открытого», недосказанного повествования, связанного синтаксисом, который нарочито акцентирует выделение обращений, энергичное перечисление последовательных действий, обособление причастных и деепричастных оборотов, кульминационные паузы главных периодов – и уже поэтому придает самому повествованию ритмико-интонационный характер, схожий с выразительностью поэтического текста[25 - Чупашева О. М. О некоторых пунктуационных особенностях художественной прозы Н. М. Карамзина // Формирование норм русского литературного языка XVIII века. Ижевск, 1994. С. 115–121; Головченко Г. А. Ритм и интонация в характеристике образа героини в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» // Язык. Словесность. Культура. 2016. Т. 6. № 6. С. 29–60. В. Н. Топоров, усмотревший в «Бедной Лизе» преимущественно «дактилический ритм», оговаривается, что «в принципе» повесть Карамзина «столь же дактилична, сколь ямбична и хореична. Само соотношение ритмов в этом случае, строго говоря, не показательно» (Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. С. 72, 69).].
Если учитывать при этом, что чтение литературных произведений вслух было более привычным для эпохи конца XVIII и первых десятилетий XIX века, чем чтение «про себя»[26 - Рейтблат А. И. Чтение вслух как культурная традиция // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 30–35.], то поэтическая выразительность чтения вслух повести Карамзина предстает еще более значимой, как пример поэтики и риторики, выражающей особенности непосредственной коммуникации – силу эмоционального взаимодействия, устанавливаемого между автором и его аудиторией, а также достижение сопереживания, которое, собственно, и определяло собою эстетику и этику сентиментализма – право на искренность чувств и «голос» сердца[27 - Ср.: Sobol V. Nerves, brain, or heart? The physiology of emotions and the mind-body problem in Russian sentimentalism // Russian Review. Syracuse (N. Y.). 2006. Vol. 65. № 1. P. 1–14.].
Для читателей «Бедной Лизы» стилистические и пунктуационные предпочтения Карамзина были особенно непривычны в сравнении с уже имевшимися к тому времени в русской литературе большими, часто многотомными, романами, отличавшимися исключительно подробным изложением приключенческого и/или любовного сюжета[28 - О лексико-стилистическом «перевороте», произведенном Карамзиным в истории русского романа: Скипина К. О чувствительной повести // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л.: Академия, 1926. С. 13–22, 28–31.]. Те же предпочтения резко контрастировали с традицией торжественных од и поэтических панегириков, изобиловавших восклицательными («удивительными», по выражению Ломоносова)[29 - Ломоносов М. В. Российская грамматика. § 134 // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 431.]знаками, но никак не многоточиями и тире[30 - См. запись А. И. Тургенева в дневнике от 31 июля 1803 года: «Ввечеру целый час проговорил со Шлецером и – о чем же? О Ломоносове и Карамзине. <…> Разница видна, примолвил с усмешкой Шлецер, и в числе точек и тире, попадающихся на странице сих двух авторов. У одного вряд на целой странице увидишь более трех периодов и, следовательно, трех точек, у второго – десять и более, не считая тире и восклицательных знаков» (Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники А. И. Тургенева. Вып. 2. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева Геттингенского периода (1802–1804 г.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805–1811 г. СПб., 1911. С. 243).]. Много лет спустя Николай Греч будет вспоминать о своем детстве в эпоху павловского правления и первом наставнике в изучении языков:
Литературные познания моего учителя, Дмитрия Михайловича Кудлая, франта и модника, были очень ограничены. Он читал с восторгом «Бедную Лизу» и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину[31 - Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 168.].
В подражание Карамзину ревнители связываемого с ним «нового слога» утрировали как лексику, так и стилистику сентиментализма – и, в частности, его пунктуационные приметы. Издатель журнала «Цветник» Александр Измайлов в 1810 году характерно иронизировал на его страницах над «сентиментально-плаксивыми писателями», для которых «нет ничего легче [чем] ставить тире», и пародийно описывал кабинет одного из таких писателей с реестром «разных сочинений, которые он намерен выдать в свет» – одно из них: «Рассуждение о точках и тиретах»[32 - Цветник. 1810. № 2. С. 249; № 5. С. 230. Цит. по: Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. М.: Наука, 1982. С. 231–232.]. Пристрастию к тире и многоточиям верен также герой сатирической «Исповеди бедного стихотворца» (1814), приписываемой юному Пушкину:
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой строчке
«Увы!», и «се», и «ах», «мой Бог!», тире да точки[33 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. С. 313. Известно по копии в сборнике С. А. Соболевского. Обоснование авторства Пушкина: Цявловский M. Забытое стихотворение Пушкина «Исповедь стихотворца» // Новый мир. 1930. № 4. С. 169–174.].
Идиллия «Ручей» Дезульер в издании Oeuvres de Madame des Houlieres (Paris: Desray, 1798) и ее перевод в сборнике: Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым (М., 1807)
Язвительные насмешки по адресу сентиментального лексикона вкупе с сопутствующей ему пунктуацией остаются актуальными и в последующие годы – пока и сам этот лексикон остается востребованным у читателей, воспитанных на Карамзине. Епископ Евгений (Евфимий Болховитинов) неслучайно пенял Державину, едва ли не единственному из поэтов старой школы, кто приветствовал карамзинское направление, что тот злоупотребляет тире[34 - Переписка Евгения с Державиным / Чтения Я. К. Грота. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1868. С. 85 («Еще скажу вам, что в сочинении вашем часто слог слишком отрывен и инде нет связи мыслей и замечаний. Нужно сии места посвязать, а линеечки (тиреты) многие выключить»).]. Еще более оправданно те же упреки могли быть адресованы Алексею Мерзлякову – популярному поэту и профессору-словеснику, одному из самых деятельных членов Общества любителей российской словесности при Московском университете, – многочисленные произведения которого не обходились без постраничных тире и многоточия. О принципиальности такой пунктуации для самого Мерзлякова можно судить по его переводам античной поэзии и особенно «идиллий госпожи Дезульер» (Antoinette Des Houli?res), изданных отдельным сборником (1807), который буквально изобилует экспрессивной пунктуацией, отсутствующей в оригинальном тексте[35 - Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым. М.: В тип. Платона Бекетова, 1807. Во французских изданиях, которыми мог пользоваться Мерзляков (например: Cuvres de Madame des Houli?res. Tome 1. Paris: Desray, 1798), многоточия – единичны, а тире отсутствуют вовсе. У Мерзлякова и те и другие – постраничны (зачастую через одну-две строки).].
Михаил Погодин, прочитавший в 1820 году торжественную оду юного ученика Мерзлякова Федора Тютчева «Урания», оставил дневниковую запись от прочитанного:
Каждый стих отдельно хорош, а все вместе составляют такую бестолковщину, какой примера редко найти можно. Я вспомнил слова Кубарева: Если у [… ] наших поэтов отнять было право ставить тиреты и точки во множестве, то у нас по крайней мере в пятеро было бы менее стихотворений. Нет ничего справедливее этого. Теперь поставят несколько [… ] точек, потом совсем другая мысль без всякого отношения к предыдущей, и ничего сказать нельзя против, потому что не понимаешь[36 - Запись от 26 июля. Цит. по: Рогов К. Вариации «Московского текста»: К истории отношений Ф. И. Тютчева и М. П. Погодина // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 68–106. https://www.ruthenia.ru/document/202591.html. «Урания» была прочитана Тютчевым на торжественном собрании Московского университета 6 июля 1820 года, на котором присутствовал и Погодин. Прочитать – и, соответственно, увидеть количество тире и многоточий – он мог по одновременным изданиям: Речи и отчеты имп. Московского университета. 1820. С. 1–6 (тогда же напечатана отдельным оттиском с титульным листом в типографии Московского университета).].
Основания для критики у Погодина были: на 194 стиха «Урании» насчитывается 26 многоточий и 39 тире. Новомодная пунктуация раздражала и Александра Шишкова, давнишнего оппонента Карамзина и его литературных единомышленников. В 1821 году в письме к И. И. Дмитриеву он критикует перевод Вергилия, выполненный Семеном Раичем (который, как и Мерзляков, был университетским наставником Тютчева), и особенно негодует на встречающиеся в нем тире: «Черточки (тире) есть также новое изобретение, показующее больше упадок, нежели возвышение ума. Оне, сколько их не наставь, не прибавляют ничего к ясности смысла и силе выражения»[37 - Письма разных лиц к И. И. Дмитриеву. М., 1867. С. 10. Письмо от 13 сентября 1821 г.].
В вышедшем в том же году «Словаре древней и новой поэзии» Николая Остолопова понятие «Удержание» (Reticentia, Aposiopesis) объяснялось как пропуск («выпуск»), обозначенный на письме многоточием, «одного или многих слов, необходимых в предложении по словосочинению». «У новейших наших стихотворцев, – замечалось здесь же, – фигура сия в большом употреблении». «Однако ж надлежит наблюдать, чтобы такие выпуски не затмевали смысла»[38 - Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. Ч. 3. СПб.: Тип. Имп. Рос. Академии, 1821. С. 435.].
Литературно-поэтическая практика в употреблении многоточия и тире со временем уравновешивается их ученой нормативизацией. В 1820–1830?е годы об их надлежащем употреблении пишут филологи Евграф Филомафитский (расценивавший тире как наименее значимый и малообязательный знак препинания, а многоточие – как знак вообще лишний и подлежащий исключению из грамматики)[39 - Филомафитский Е. О знаках препинания вообще и в особенности для российской словесности // Труды общества любителей российской словесности. Ч. 2. 1822. С. 72–134.], Александр Востоков (определявший многоточие как знак «пресекательный», а тире – как знак «мыслеотделительный»)[40 - Востоков А. Х. Русская грамматика. СПб., 1831. С. 318. В последнем случае Востоков следует немецкому термину, обозначающему тире: Gedankenstrich.] и упоминавшийся выше Николай Греч, полагавший оба эти знака «вспомогательными» «в случае недостаточности прочих знаков» – с тем, впрочем, различием, что многоточием «означается неожиданное прерывание речи», а тире – «между периодами, окончанными точкою, для показания, что они не состоят в логической между собою связи» и «при всяком неожиданном переходе в предложении»[41 - Греч Н. Практическая русская грамматика. 2?е изд. СПб., 1834. С. 512, 524. (1?е изд. – 1827 года).].