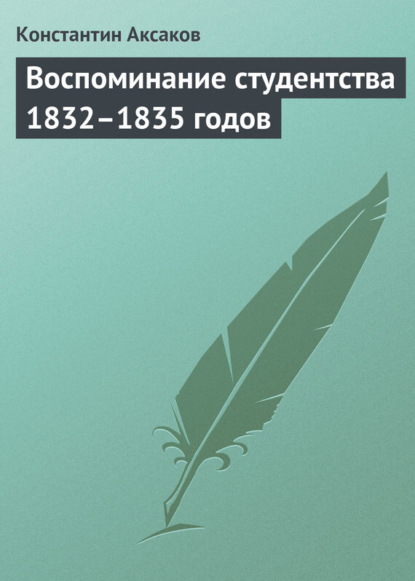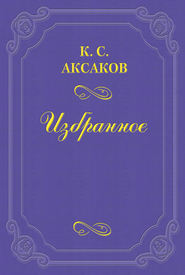По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воспоминание студентства 1832–1835 годов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Константин Сергеевич Аксаков
«Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен, – экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался для меня страшен. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет…»
Константин Сергеевич Аксаков
Воспоминание студентства 1832–1835 годов
Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен, – экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался для меня страшен. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет.
В мое время полный университетский курс состоял только из трех курсов. Первый курс назывался подготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было сравнительно довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек 20–30. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидели друг друга в первый раз; во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи, – чувство для меня новое.
В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя несознательно, и то, что молодые силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были точно молоды не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента[1 - Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь.].
Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя, собственно, товарищи мои ничем не сделались замечательны, – кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду, – но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим основание воспоминанием. Вообще не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной стороны – играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны – истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!
В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Молодая жизнь точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства, цель эта достигалась большею частию весьма слабо, – и очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины; но живые, неподавленные силы находили к ней дорогу.
Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студенческая свобода не исчезла, но молодость уже не увлекалась, как прежде, одним кипением крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шутливых проделках, мало-помалу исчезнувших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторяющихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже очевидно преданием.
Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однажды, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и, только показался Победоносцев – грянули: «Се жених грядет во полунощи». Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в то время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если б Победоносцев был человеком жалким и смирным, но он, напротив, был не таков: он бранился с студентами, как человек старого времени, говорил им ты; они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.
На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, невыносимо скучно. «Ну что, Аксаков, когда же ты мне хрийку напишешь?» – говорил, бывало, Победоносцев. Студенты, нечего делать, подавали ему хрийки. Кроме Победоносцева были у нас профессорами: богословия – Терновский, латинского языка – Кубарев, греческого – Оболенский, немецкого – Геринг, французского – Куртенер, географии – Коркунов; Гостев читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики и еще чего-то. Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее они меня довольно интересовали. От времени до времени поднимался какой-нибудь студент, обыкновенно духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Терновским диалектический спор, который Терновский поддерживал, иногда с досадою, – но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял кого-нибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихеньким голоском своим, Тита Ливия, – и только. Гостев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртенер толковал о participe present. Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его – иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомерову Одиссею:
Andra moi ennepe, Musa…[2 - Муза, скажи мне о том многоопытном муже… – древнегреч.]
Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтобы не обратиться в совершенного слушателя.
Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и, скорее, забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, – и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя, и полные глубокого значения выражения богословия, и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекции Гостева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые смешным Герингом, – падали более или менее сознательно, более или менее сильно в раскрытые души юношей – лишь бы они только не противились впечатлению, – нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства. Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов: я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б при этой свободе студенческой университетской жизни было у нас живое, глубокое слово профессора!
Наш курс, впрочем, не очень был замечателен относительно личности студентов. Желая поскорее осуществить юношеское товарищество на деле, я выбрал четырех из товарищей, более других имевших умственные интересы, и заключил с ними союз. Это были: Белецкий из Вильны, называемый обыкновенно паном, Теплов, Дмитрий Топорнин и Сомин. Я немедленно написал стих друзьям, кажется, такого содержания:
Друзья, садитесь в мой челнок,
И вместе поплывем мы дружно.
Стрелою нас помчит поток:
Весла и паруса не нужно.
Вы видите вдали валы.
Седые водные громады;
Там скрыты острые скалы, —
То моря грозного засады…
Далее не помню. Эти стихи были потом положены на музыку Тепловым. Белецкий был человек очень образованный и умный, с глубоким сосредоточенным жаром, читавший с восторгом Мицкевича; что с ним сделалось потом – я не знаю. Я должен признаться, что мои друзья не соответствовали всей мере моих требований; но это уже вопрос личности; разница, вытекающая отсюда, непременно явится всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни; кто не пошел вперед, когда путь не загражден, уже сам виноват.
На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии; все они были очень хорошо приготовлены. Я познакомился со всеми с ними и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими синонимами. Я помню, как, переводя немецкое Ziehen, Коссович сказал: идут, тянутся, стремятся. Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык.
Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекцею Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустою. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье: на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского, – и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказывалась связь общего союза – одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.
Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает с скандовкой? – Оболенский отвечал: «А, это-с лучше всего объясняется пением», – и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печально-торжественною миною, что просто не было почти никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический, готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию, – и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучаясь, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне было? – Я был тогда очень смешлив, и когда Теплое проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами», – я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболенского, что ты с нами наделал?» – говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их.
Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на них основывали профессора наиболее свое мнение о студентах. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызвал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегорию?» – «Как аллегорию? – сказал Терновский. – Почему вы так думаете?» – «Древо жизни, – отвечал я, – было преобразованием Христа». – «Оно было преобразованием; но это не значит, чтоб оно не существовало», – заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне 3, а не 4. – В наше время четыре был высший балл.
Я рассказываю все эти случаи как характеризующие эпоху больше или меньше. Не думаю, чтоб что-нибудь подобное могло иметь место и теперь в университете. Расскажу еще и случай, не очень лестный для моего самолюбия. Геринг, лекции которого были обыкновенно по вечерам, читал однажды с нами балладу Шиллера «Ивиковы журавли» и попросил читать вслед за строфою немецкого оригинала строфу перевода Жуковского; не помню, вызвал ли Геринг меня или я сам вызвался, но только я, стоя у кафедры, начал читать вслух перевод Жуковского. Я читал с притязанием на хорошее чтение, читал несколько надуто и в иных местах напрягал свой громкий голос до того, что он гремел во всей аудитории. Студенты заметили мои притязания, и вдруг раздались рукоплескания. «Господа, что это значит?» – спросил Геринг. «Мы не могли удержаться, слыша чтение Аксакова», – отвечал студент Старчиков. Я принял все за наличные деньги и был очень доволен. Лекция кончилась, Геринг ушел, и некоторые студенты стали кричать: «Аксакова!» Я еще не понимал насмешки, как добрый мой товарищ, Дмитрий Топорнин, искренне меня любивший, обратился с раздраженным видом к кричавшим студентам и сам закричал в свою очередь: «Дураков, господа, дураков!» Тут только догадался я, что надо мною смеялись, и очень огорчился. Я не любил шуток и не любил насмешек; но насмешка ироническая под видом похвалы, и еще более дураченье, ибо это все же предательство, были и остались мне противны, тем более что у меня движенье принимать сказанное за наличные деньги.