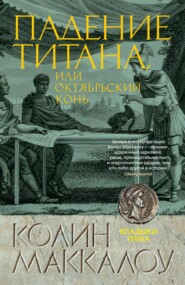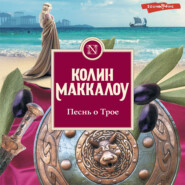По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Антоний и Клеопатра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Антоний? Он готов совокупиться даже с коровой.
– Ты сам слышишь, что говоришь, Цезарь? Я знаю, как сильно ты любишь сестру, и ты хочешь навязать ей Антония? Он же пьяница и бьет жен! Умоляю тебя, подумай хорошо! Октавия самая прекрасная, самая милая, самая славная женщина в Риме. Даже неимущие обожают ее, как они обожали дочь божественного Юлия.
– Звучит так, словно ты сам хочешь жениться на ней, Меценат, – хитро заметил Октавиан.
Меценат осекся.
– Как ты можешь шутить о таких… о таких серьезных вещах? Мне нравятся женщины, но мне еще и жалко их. Их жизнь столь однообразна, все их политическое влияние заключается в выгодных браках, и лишь одно можно сказать в защиту римской справедливости: хорошо еще, что большинство женщин имеют право распоряжаться своим состоянием. Изгнание на периферию общественной жизни может раздражать таких женщин, как Гортензия и Фульвия, но не раздражает Октавию. Если бы это было иначе, ты не сидел бы здесь такой самодовольный и уверенный в ее покорности. Разве не пора дать ей возможность выйти замуж за человека, которого она сама выберет?
– Я ее не принуждаю, если ты это имеешь в виду, – спокойно ответил Октавиан. – Я не дурак, знаешь ли, и посетил достаточно семейных обедов со времени Фарсала, чтобы заметить, что Октавия почти влюблена в Антония. Она охотно покорится судьбе.
– Я не верю этому!
– Это правда. Хотя я не могу понять, что находят женщины в подобных мужчинах, но даю слово, Антоний нравится Октавии. Этот факт и мой союз со Скрибонией подали мне эту идею. Что же касается вина и битья жен, здесь я в Антонии не сомневаюсь. Он мог побить Фульвию, но причина была очень серьезной. При всем его самодовольстве он очень сентиментален в отношении женщин. Октавия подойдет ему. Как и неимущие, он будет обожать ее.
– Ведь еще есть египетская царица. Он не будет верным мужем.
– А какой муж, находящийся за границей, хранит жене верность? Октавия не станет обвинять его в изменах. Она слишком хорошо воспитана.
Вскинув вверх руки, Меценат удалился поразмышлять о незавидной доле дипломата. Неужели Октавиан действительно ожидал, что он, Меценат, возьмется устраивать этот брак? Он отказывается! Бросить такую жемчужину, как Октавия, к ногам такой свиньи, как Антоний? Никогда! Никогда!
Октавиан не хотел лишать себя удовольствия самому устроить этот брак. К этому времени Антоний, должно быть, уже забыл о сцене в его палатке после Филипп, когда Октавиан потребовал голову Брута – и получил ее. Ненависть Антония была так велика, что затмевала отдельные события. Октавиан не ждал, что брак с Октавией положит конец этой ненависти. Наверное, человек поэтического склада, например Меценат, подумает, что именно это движет Октавианом. Но он был слишком умен, чтобы надеяться на чудо. Став женой Антония, Октавия будет делать то, что захочет муж. Она не станет пытаться повлиять на отношение Антония к ее брату. Нет, при заключении этого брака он стремился лишь к тому, чтобы укрепить надежду простых римлян – и легионеров, – что угроза войны миновала. И если настанет день, когда Антоний воспылает страстью к другой женщине и бросит жену, он упадет в глазах миллионов римлян по всему свету. Поскольку Октавиан поклялся, что никогда не будет участвовать в гражданской войне, придется подорвать не auctoritas Антония, его общественный статус, но его dignitas – достоинство, положение, которое он занимает благодаря своим личным качествам и достижениям. Когда божественный Цезарь перешел Рубикон и начал гражданскую войну, он сделал это, чтобы защитить свое dignitas, которым дорожил больше, чем жизнью. Допустить, чтобы его подвиги были изъяты из официальных хроник Республики, а самого его отправили в вечную ссылку? Для Цезаря это было хуже гражданской войны. Но Октавиан сделан из другого теста, для него гражданская война хуже позора и ссылки. И конечно, он не военный гений, не знающий поражений. Октавиан намерен ослабить dignitas Марка Антония до такой степени, чтобы он перестал быть угрозой. После этого звезда Октавиана будет продолжать подниматься, и он, а не Антоний станет Первым человеком в Риме. Это произойдет не завтра, понадобится много лет. Но Октавиан может позволить себе ждать. Он младше Антония на двадцать один год. О, впереди годы и годы борьбы за то, чтобы накормить Италию и найти землю для нескончаемого потока ветеранов.
Он знал цену Антонию. Божественный Цезарь сейчас уже стучал бы в дверь дворца царя Орода в Селевкии-на-Тигре, а где Антоний? Осаждает Брундизий на Италийской земле. Он может нести чепуху, будто, находясь там, защищает свое звание триумвира, но на самом деле он там, чтобы не быть в Сирии и не драться с парфянами. Антоний может хвастаться, что одержал победу у Филипп, но он знает, что не смог бы победить без легионов Октавиана, состоявших из людей, на чью преданность Антоний не мог рассчитывать.
Октавиан написал Антонию письмо и отослал его с курьером-вольноотпущенником.
«Я все отдал бы за то, – подумал он, – чтобы Фортуна подарила мне какое-нибудь средство навсегда сокрушить Антония. Это не Октавия и, вероятно, не его развод с ней, если он решит бросить ее, устав от ее добродетелей. Я знаю, что Фортуна ко мне благосклонна, – я так часто и чисто бреюсь, что всегда без бороды. И всякий раз, когда я стою на краю бездны, удача мне улыбается. Как, например, страстное желание Либона найти именитого мужа для своей сестры. Как смерть Калена в Нарбоне и письмо его сына-идиота мне, а не Антонию. Как смерть Марцелла. Как Агриппа, который может вести войска вместо меня. Как спасение от смерти всякий раз, когда астма не дает мне дышать. Как военная казна божественного Юлия, которая помогла мне избежать разорения. Как отказ жителей Брундизия впустить Антония, да пошлют им Либер, Индигет и Теллус мир и процветание в будущем. Я не приказывал городу сделать то, что он сделал, как и не спровоцировал тщетной войны Фульвии против меня. Бедная Фульвия!
Каждый день я приношу жертву дюжине богов во главе с Фортуной, чтобы мне удалось устранить Антония раньше, чем это сделает возраст. Оружие, способное его сокрушить, существует, я знаю это так же точно, как знаю, что я был избран, чтобы поставить Рим на ноги, достичь длительного мира на границах империи. Я – воспетый поэтом Мецената Вергилием избранник, который возвестит приход золотого века, о чем твердят все предсказатели Рима. Божественный Юлий усыновил меня, и я оправдаю его доверие, закончу то, что начал он. О, это будет не мироустройство божественного Юлия, но оно понравится ему. Фортуна, дай мне еще сказочной удачи Цезаря! Дай мне оружие и открой мои глаза, чтобы я узнал его, когда оно появится!»
Ответ Антония пришел с тем же курьером. Да, он увидится с Цезарем Октавианом под флагом перемирия. «Но мы не находимся в состоянии войны! – подумал пораженный Октавиан. – Что же у него в голове, если он считает, что мы воюем?»
На следующий день Октавиан отправился к Антонию на государственном коне Юлиев. Это был небольшой конь, но очень красивый, кремового окраса, с более темными гривой и хвостом. Если ехать верхом, значит нельзя будет надеть тогу, но, поскольку Октавиан не хотел выглядеть военным, он надел белую тунику с широкой пурпурной каймой сенатора на правом плече.
Естественно, Антоний встретил его в полном вооружении, в серебряной кольчуге и кирасе с изображением Геркулеса, убивающего немейского льва. Его туника была пурпурного цвета, как и палудамент, свисающий с плеч, хотя по правилам он должен быть алым. Как всегда, вид у него был внушительный.
– Никакой обуви на толстой подошве, Октавиан? – усмехаясь, спросил Антоний.
Он не подал руки, но Октавиан так нарочито протянул правую руку, что Антоний был вынужден взять ее и сжал так, что чуть не раздавил тонкие кости. Октавиан выдержал с непроницаемым лицом.
– Входи, – пригласил Антоний, откинув полог палатки.
То, что он выбрал для своего пребывания здесь палатку, а не дом, в котором обычно размещался командующий, свидетельствовало о его уверенности, что осада Брундизия долго не продлится.
Общая комната палатки оказалась большой, но при опущенном пологе здесь было очень темно. Октавиан воспринял это как свидетельство осторожности Антония. Тот опасался, что лицо может выдать его эмоции. Но Октавиана это не беспокоило. Его интересовало не выражение лица Антония, а ход мыслей, ибо именно с ними ему придется иметь дело.
– Я так рад, – сказал он, садясь в глубокое кресло, слишком большое для его хрупкой комплекции, – что мы достигли соглашения по некоторым пунктам. Я решил, что лучше всего будет, если мы с тобой наедине детально обсудим те вопросы, по которым нам еще не удалось достигнуть согласия.
– Деликатно сказано, – заметил Антоний, отпивая из кубка вино, специально разбавленное водой.
– Красивая вещь, – заметил Октавиан, вертя в руках свой кубок. – Где он сделан? Ручаюсь, не в Путеолах.
– В стеклодувных мастерских Александрии. Мне нравится пить из стеклянной посуды. Стекло не впитывает запах вина, как это делает даже самая лучшая керамика. – Он скорчил гримасу. – А металлическая посуда отдает металлом.
Октавиан сильно удивился:
– Edepol! Я и не думал, что ты так требователен к посуде, из которой пьешь!
– Сарказм никуда тебя не приведет, – заметил Антоний без обиды. – Обо всем этом мне говорила царица Клеопатра.
– О, тогда понятно. Патриот Александрии?
Лицо Антония прояснилось.
– Именно так! Александрия – самый красивый город в мире. Пергам и даже Афины ничего не стоят в сравнении с ней.
Отпив вина, Октавиан поставил кубок, словно вдруг обжегся. Вот еще один дурак! Зачем восторгаться красотой другого города, когда его родной город пребывает в упадке и небрежении?
– Само собой разумеется, ты можешь забрать сколько хочешь легионов Калена, – солгал он. – Собственно говоря, ни одно из твоих условий не беспокоит меня, кроме отказа помочь мне очистить море от Секста Помпея.
Хмурясь, Антоний поднялся и откинул полог палатки, наверное чтобы видеть лицо Октавиана.
– Италия – твоя провинция, Октавиан. Разве я просил тебя помочь мне управлять моими провинциями?
– Нет, не просил, но и не присылал в казну долю Рима из восточной дани. Уверен, мне не нужно говорить тебе, триумвиру, что государственная казна должна пополняться налогами, из них выплачиваются суммы наместникам провинций, чтобы они могли финансировать свои легионы и оплачивать общественные работы, – прямо сказал Октавиан. – Конечно, я понимаю, что ни один наместник, а тем более триумвир, не ограничивается тем, что должен отправить в Рим, – он всегда просит больше, чтобы что-то оставить себе. Это давняя традиция, и я ее не оспариваю. Я тоже триумвир. Однако за два года твоего наместничества ты не положил в казну ни сестерция. Если бы это было не так, я мог бы купить корабли, необходимые для борьбы с Секстом. Возможно, тебе удобно использовать пиратские корабли как свой флот, поскольку все флотоводцы, которые были на стороне Брута и Кассия, после Филипп решили стать пиратами. Я был бы не прочь и сам использовать их, если бы они не жирели, обгладывая мои кости! Знаешь, чем они занимаются? Доказывают Риму и всей Италии – источнику всех наших лучших солдат, – что миллион солдат не может помочь двум триумвирам, не имеющим кораблей. Ты наверняка получаешь зерно из западных провинций, чтобы сытно кормить свои легионы! Не моя вина, что ты позволил парфянам хозяйничать везде, кроме Вифинии и провинции Азия! Твою шкуру спасает Секст Помпей, пока тебе выгодно поддерживать с ним хорошие отношения. Он продает тебе зерно Италии по умеренной цене, – зерно, напоминаю тебе, купленное Римом и оплаченное из казны Рима! Да, Италия – моя провинция, но мой единственный источник денег – это налоги, которые мне приходится выжимать из всех римских граждан, живущих в Италии. Их недостаточно, чтобы заплатить за корабли и купить украденную пшеницу у Секста Помпея по тридцать сестерциев за модий! Поэтому я снова спрашиваю: где дань с Востока?
Антоний слушал с возрастающим гневом.
– Восток разорен! – крикнул он. – Нет дани, которую я мог бы послать!
– Это неправда, и даже самый последний римлянин в Италии знает это, – возразил Октавиан. – Например, Пифодор из Тралл привез тебе в Тарс две тысячи талантов серебра. Тир и Сидон заплатили тебе еще тысячу. А грабеж Киликии Педии дал четыре тысячи. Всего сто семьдесят пять миллионов сестерциев! Таковы факты, Антоний! Хорошо известные факты!
«Зачем я согласился встретиться с этой мерзкой букашкой? – с недоумением спросил себя Антоний. – Стоило ему напомнить, что о каждом моем шаге на Востоке знает самый последний римлянин в Италии, и он получил надо мною превосходство. Не говоря ничего прямо, он дает понять, что страдает моя репутация. Что меня можно критиковать, что сенат и народ Рима может лишить меня полномочий. Да, я могу пойти на Рим, казнить Октавиана и назначить себя диктатором. Но ведь это я выступал против диктаторства! Брундизий доказал, что мои легионеры не будут драться с легионерами Октавиана. Только один этот факт объясняет, почему маленький verpa может сидеть здесь и бросать мне вызов, открыто демонстрируя свою неприязнь».
– То есть в Риме я не слишком популярен, – угрюмо произнес он.
– Откровенно говоря, Антоний, ты вообще не популярен, особенно после осады Брундизия. Ты счел возможным обвинить меня в том, что я якобы велел жителям Брундизия не впускать тебя в порт, но ты хорошо знаешь, что я этого не делал. Зачем мне это? Мне это совсем невыгодно! Своими действиями ты только напугал римлян, ожидающих, что ты пойдешь войной на них. Чего ты сделать не можешь! Твои легионы не позволят тебе. Если ты действительно хочешь восстановить свою репутацию, ты должен доказать это Риму, а не мне.
– Я не пойду вместе с тобой против Секста Помпея, если ты об этом. У меня всего-то и есть что сотня военных кораблей в Афинах, – соврал Антоний. – Этого недостаточно, поскольку у тебя кораблей нет. Дело в том, что Секст Помпей предпочитает меня тебе, и ты никак не сумеешь спровоцировать его. В данный момент он меня не беспокоит.
– Я и не надеялся, что ты поможешь мне, – спокойно отреагировал Октавиан. – Нет, я больше думал о вещах, видимых всем римлянам, сверху донизу.
– О каких?
– О твоем браке с моей сестрой Октавией.
Антоний, открыв рот, уставился на своего мучителя:
– Ты сам слышишь, что говоришь, Цезарь? Я знаю, как сильно ты любишь сестру, и ты хочешь навязать ей Антония? Он же пьяница и бьет жен! Умоляю тебя, подумай хорошо! Октавия самая прекрасная, самая милая, самая славная женщина в Риме. Даже неимущие обожают ее, как они обожали дочь божественного Юлия.
– Звучит так, словно ты сам хочешь жениться на ней, Меценат, – хитро заметил Октавиан.
Меценат осекся.
– Как ты можешь шутить о таких… о таких серьезных вещах? Мне нравятся женщины, но мне еще и жалко их. Их жизнь столь однообразна, все их политическое влияние заключается в выгодных браках, и лишь одно можно сказать в защиту римской справедливости: хорошо еще, что большинство женщин имеют право распоряжаться своим состоянием. Изгнание на периферию общественной жизни может раздражать таких женщин, как Гортензия и Фульвия, но не раздражает Октавию. Если бы это было иначе, ты не сидел бы здесь такой самодовольный и уверенный в ее покорности. Разве не пора дать ей возможность выйти замуж за человека, которого она сама выберет?
– Я ее не принуждаю, если ты это имеешь в виду, – спокойно ответил Октавиан. – Я не дурак, знаешь ли, и посетил достаточно семейных обедов со времени Фарсала, чтобы заметить, что Октавия почти влюблена в Антония. Она охотно покорится судьбе.
– Я не верю этому!
– Это правда. Хотя я не могу понять, что находят женщины в подобных мужчинах, но даю слово, Антоний нравится Октавии. Этот факт и мой союз со Скрибонией подали мне эту идею. Что же касается вина и битья жен, здесь я в Антонии не сомневаюсь. Он мог побить Фульвию, но причина была очень серьезной. При всем его самодовольстве он очень сентиментален в отношении женщин. Октавия подойдет ему. Как и неимущие, он будет обожать ее.
– Ведь еще есть египетская царица. Он не будет верным мужем.
– А какой муж, находящийся за границей, хранит жене верность? Октавия не станет обвинять его в изменах. Она слишком хорошо воспитана.
Вскинув вверх руки, Меценат удалился поразмышлять о незавидной доле дипломата. Неужели Октавиан действительно ожидал, что он, Меценат, возьмется устраивать этот брак? Он отказывается! Бросить такую жемчужину, как Октавия, к ногам такой свиньи, как Антоний? Никогда! Никогда!
Октавиан не хотел лишать себя удовольствия самому устроить этот брак. К этому времени Антоний, должно быть, уже забыл о сцене в его палатке после Филипп, когда Октавиан потребовал голову Брута – и получил ее. Ненависть Антония была так велика, что затмевала отдельные события. Октавиан не ждал, что брак с Октавией положит конец этой ненависти. Наверное, человек поэтического склада, например Меценат, подумает, что именно это движет Октавианом. Но он был слишком умен, чтобы надеяться на чудо. Став женой Антония, Октавия будет делать то, что захочет муж. Она не станет пытаться повлиять на отношение Антония к ее брату. Нет, при заключении этого брака он стремился лишь к тому, чтобы укрепить надежду простых римлян – и легионеров, – что угроза войны миновала. И если настанет день, когда Антоний воспылает страстью к другой женщине и бросит жену, он упадет в глазах миллионов римлян по всему свету. Поскольку Октавиан поклялся, что никогда не будет участвовать в гражданской войне, придется подорвать не auctoritas Антония, его общественный статус, но его dignitas – достоинство, положение, которое он занимает благодаря своим личным качествам и достижениям. Когда божественный Цезарь перешел Рубикон и начал гражданскую войну, он сделал это, чтобы защитить свое dignitas, которым дорожил больше, чем жизнью. Допустить, чтобы его подвиги были изъяты из официальных хроник Республики, а самого его отправили в вечную ссылку? Для Цезаря это было хуже гражданской войны. Но Октавиан сделан из другого теста, для него гражданская война хуже позора и ссылки. И конечно, он не военный гений, не знающий поражений. Октавиан намерен ослабить dignitas Марка Антония до такой степени, чтобы он перестал быть угрозой. После этого звезда Октавиана будет продолжать подниматься, и он, а не Антоний станет Первым человеком в Риме. Это произойдет не завтра, понадобится много лет. Но Октавиан может позволить себе ждать. Он младше Антония на двадцать один год. О, впереди годы и годы борьбы за то, чтобы накормить Италию и найти землю для нескончаемого потока ветеранов.
Он знал цену Антонию. Божественный Цезарь сейчас уже стучал бы в дверь дворца царя Орода в Селевкии-на-Тигре, а где Антоний? Осаждает Брундизий на Италийской земле. Он может нести чепуху, будто, находясь там, защищает свое звание триумвира, но на самом деле он там, чтобы не быть в Сирии и не драться с парфянами. Антоний может хвастаться, что одержал победу у Филипп, но он знает, что не смог бы победить без легионов Октавиана, состоявших из людей, на чью преданность Антоний не мог рассчитывать.
Октавиан написал Антонию письмо и отослал его с курьером-вольноотпущенником.
«Я все отдал бы за то, – подумал он, – чтобы Фортуна подарила мне какое-нибудь средство навсегда сокрушить Антония. Это не Октавия и, вероятно, не его развод с ней, если он решит бросить ее, устав от ее добродетелей. Я знаю, что Фортуна ко мне благосклонна, – я так часто и чисто бреюсь, что всегда без бороды. И всякий раз, когда я стою на краю бездны, удача мне улыбается. Как, например, страстное желание Либона найти именитого мужа для своей сестры. Как смерть Калена в Нарбоне и письмо его сына-идиота мне, а не Антонию. Как смерть Марцелла. Как Агриппа, который может вести войска вместо меня. Как спасение от смерти всякий раз, когда астма не дает мне дышать. Как военная казна божественного Юлия, которая помогла мне избежать разорения. Как отказ жителей Брундизия впустить Антония, да пошлют им Либер, Индигет и Теллус мир и процветание в будущем. Я не приказывал городу сделать то, что он сделал, как и не спровоцировал тщетной войны Фульвии против меня. Бедная Фульвия!
Каждый день я приношу жертву дюжине богов во главе с Фортуной, чтобы мне удалось устранить Антония раньше, чем это сделает возраст. Оружие, способное его сокрушить, существует, я знаю это так же точно, как знаю, что я был избран, чтобы поставить Рим на ноги, достичь длительного мира на границах империи. Я – воспетый поэтом Мецената Вергилием избранник, который возвестит приход золотого века, о чем твердят все предсказатели Рима. Божественный Юлий усыновил меня, и я оправдаю его доверие, закончу то, что начал он. О, это будет не мироустройство божественного Юлия, но оно понравится ему. Фортуна, дай мне еще сказочной удачи Цезаря! Дай мне оружие и открой мои глаза, чтобы я узнал его, когда оно появится!»
Ответ Антония пришел с тем же курьером. Да, он увидится с Цезарем Октавианом под флагом перемирия. «Но мы не находимся в состоянии войны! – подумал пораженный Октавиан. – Что же у него в голове, если он считает, что мы воюем?»
На следующий день Октавиан отправился к Антонию на государственном коне Юлиев. Это был небольшой конь, но очень красивый, кремового окраса, с более темными гривой и хвостом. Если ехать верхом, значит нельзя будет надеть тогу, но, поскольку Октавиан не хотел выглядеть военным, он надел белую тунику с широкой пурпурной каймой сенатора на правом плече.
Естественно, Антоний встретил его в полном вооружении, в серебряной кольчуге и кирасе с изображением Геркулеса, убивающего немейского льва. Его туника была пурпурного цвета, как и палудамент, свисающий с плеч, хотя по правилам он должен быть алым. Как всегда, вид у него был внушительный.
– Никакой обуви на толстой подошве, Октавиан? – усмехаясь, спросил Антоний.
Он не подал руки, но Октавиан так нарочито протянул правую руку, что Антоний был вынужден взять ее и сжал так, что чуть не раздавил тонкие кости. Октавиан выдержал с непроницаемым лицом.
– Входи, – пригласил Антоний, откинув полог палатки.
То, что он выбрал для своего пребывания здесь палатку, а не дом, в котором обычно размещался командующий, свидетельствовало о его уверенности, что осада Брундизия долго не продлится.
Общая комната палатки оказалась большой, но при опущенном пологе здесь было очень темно. Октавиан воспринял это как свидетельство осторожности Антония. Тот опасался, что лицо может выдать его эмоции. Но Октавиана это не беспокоило. Его интересовало не выражение лица Антония, а ход мыслей, ибо именно с ними ему придется иметь дело.
– Я так рад, – сказал он, садясь в глубокое кресло, слишком большое для его хрупкой комплекции, – что мы достигли соглашения по некоторым пунктам. Я решил, что лучше всего будет, если мы с тобой наедине детально обсудим те вопросы, по которым нам еще не удалось достигнуть согласия.
– Деликатно сказано, – заметил Антоний, отпивая из кубка вино, специально разбавленное водой.
– Красивая вещь, – заметил Октавиан, вертя в руках свой кубок. – Где он сделан? Ручаюсь, не в Путеолах.
– В стеклодувных мастерских Александрии. Мне нравится пить из стеклянной посуды. Стекло не впитывает запах вина, как это делает даже самая лучшая керамика. – Он скорчил гримасу. – А металлическая посуда отдает металлом.
Октавиан сильно удивился:
– Edepol! Я и не думал, что ты так требователен к посуде, из которой пьешь!
– Сарказм никуда тебя не приведет, – заметил Антоний без обиды. – Обо всем этом мне говорила царица Клеопатра.
– О, тогда понятно. Патриот Александрии?
Лицо Антония прояснилось.
– Именно так! Александрия – самый красивый город в мире. Пергам и даже Афины ничего не стоят в сравнении с ней.
Отпив вина, Октавиан поставил кубок, словно вдруг обжегся. Вот еще один дурак! Зачем восторгаться красотой другого города, когда его родной город пребывает в упадке и небрежении?
– Само собой разумеется, ты можешь забрать сколько хочешь легионов Калена, – солгал он. – Собственно говоря, ни одно из твоих условий не беспокоит меня, кроме отказа помочь мне очистить море от Секста Помпея.
Хмурясь, Антоний поднялся и откинул полог палатки, наверное чтобы видеть лицо Октавиана.
– Италия – твоя провинция, Октавиан. Разве я просил тебя помочь мне управлять моими провинциями?
– Нет, не просил, но и не присылал в казну долю Рима из восточной дани. Уверен, мне не нужно говорить тебе, триумвиру, что государственная казна должна пополняться налогами, из них выплачиваются суммы наместникам провинций, чтобы они могли финансировать свои легионы и оплачивать общественные работы, – прямо сказал Октавиан. – Конечно, я понимаю, что ни один наместник, а тем более триумвир, не ограничивается тем, что должен отправить в Рим, – он всегда просит больше, чтобы что-то оставить себе. Это давняя традиция, и я ее не оспариваю. Я тоже триумвир. Однако за два года твоего наместничества ты не положил в казну ни сестерция. Если бы это было не так, я мог бы купить корабли, необходимые для борьбы с Секстом. Возможно, тебе удобно использовать пиратские корабли как свой флот, поскольку все флотоводцы, которые были на стороне Брута и Кассия, после Филипп решили стать пиратами. Я был бы не прочь и сам использовать их, если бы они не жирели, обгладывая мои кости! Знаешь, чем они занимаются? Доказывают Риму и всей Италии – источнику всех наших лучших солдат, – что миллион солдат не может помочь двум триумвирам, не имеющим кораблей. Ты наверняка получаешь зерно из западных провинций, чтобы сытно кормить свои легионы! Не моя вина, что ты позволил парфянам хозяйничать везде, кроме Вифинии и провинции Азия! Твою шкуру спасает Секст Помпей, пока тебе выгодно поддерживать с ним хорошие отношения. Он продает тебе зерно Италии по умеренной цене, – зерно, напоминаю тебе, купленное Римом и оплаченное из казны Рима! Да, Италия – моя провинция, но мой единственный источник денег – это налоги, которые мне приходится выжимать из всех римских граждан, живущих в Италии. Их недостаточно, чтобы заплатить за корабли и купить украденную пшеницу у Секста Помпея по тридцать сестерциев за модий! Поэтому я снова спрашиваю: где дань с Востока?
Антоний слушал с возрастающим гневом.
– Восток разорен! – крикнул он. – Нет дани, которую я мог бы послать!
– Это неправда, и даже самый последний римлянин в Италии знает это, – возразил Октавиан. – Например, Пифодор из Тралл привез тебе в Тарс две тысячи талантов серебра. Тир и Сидон заплатили тебе еще тысячу. А грабеж Киликии Педии дал четыре тысячи. Всего сто семьдесят пять миллионов сестерциев! Таковы факты, Антоний! Хорошо известные факты!
«Зачем я согласился встретиться с этой мерзкой букашкой? – с недоумением спросил себя Антоний. – Стоило ему напомнить, что о каждом моем шаге на Востоке знает самый последний римлянин в Италии, и он получил надо мною превосходство. Не говоря ничего прямо, он дает понять, что страдает моя репутация. Что меня можно критиковать, что сенат и народ Рима может лишить меня полномочий. Да, я могу пойти на Рим, казнить Октавиана и назначить себя диктатором. Но ведь это я выступал против диктаторства! Брундизий доказал, что мои легионеры не будут драться с легионерами Октавиана. Только один этот факт объясняет, почему маленький verpa может сидеть здесь и бросать мне вызов, открыто демонстрируя свою неприязнь».
– То есть в Риме я не слишком популярен, – угрюмо произнес он.
– Откровенно говоря, Антоний, ты вообще не популярен, особенно после осады Брундизия. Ты счел возможным обвинить меня в том, что я якобы велел жителям Брундизия не впускать тебя в порт, но ты хорошо знаешь, что я этого не делал. Зачем мне это? Мне это совсем невыгодно! Своими действиями ты только напугал римлян, ожидающих, что ты пойдешь войной на них. Чего ты сделать не можешь! Твои легионы не позволят тебе. Если ты действительно хочешь восстановить свою репутацию, ты должен доказать это Риму, а не мне.
– Я не пойду вместе с тобой против Секста Помпея, если ты об этом. У меня всего-то и есть что сотня военных кораблей в Афинах, – соврал Антоний. – Этого недостаточно, поскольку у тебя кораблей нет. Дело в том, что Секст Помпей предпочитает меня тебе, и ты никак не сумеешь спровоцировать его. В данный момент он меня не беспокоит.
– Я и не надеялся, что ты поможешь мне, – спокойно отреагировал Октавиан. – Нет, я больше думал о вещах, видимых всем римлянам, сверху донизу.
– О каких?
– О твоем браке с моей сестрой Октавией.
Антоний, открыв рот, уставился на своего мучителя: