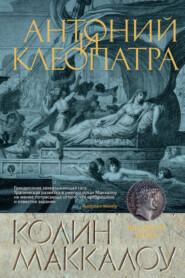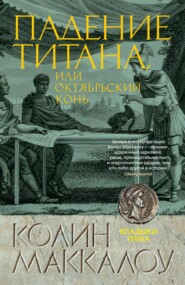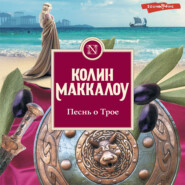По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поющие в терновнике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иди на кухню, девочка, выпьешь там чаю с миссис Смит, – отрывисто распорядилась Мэри Карсон.
Отец Ральф опустился в кресло, которое уже привык считать своим.
– Почему вы ее так не любите? – спросил он.
– Потому что ее любите вы, – был ответ.
– Полноте, Мэри! – Чуть ли не впервые он растерялся. – Мэгги очень одинокий ребенок.
– Вы не потому с ней нянчитесь и сами это знаете.
Великолепные синие глаза смерили ее язвительным взглядом; отец Ральф почувствовал себя увереннее.
– Вы, кажется, полагаете, что я растлитель малолетних? Как-никак я – священник!
– Вы прежде всего мужчина, Ральф де Брикассар! Как священник вы чувствуете себя в безопасности, вот и все.
Ошеломленный, он засмеялся. Почему-то сегодня ему не удается отбивать ее выпады; похоже, она отыскала трещинку в его доспехах и забралась туда со своим паучьим ядом. А он уже не тот, быть может, стареет, привыкает к прозябанию в джиленбоунской глуши. Гаснет былой огонь; или, может быть, теперь его воспламеняет не то, что прежде?
– Я не мужчина, – сказал он. – Я священник… Может быть, меня одолела жара, и пыль, и мухи… Но я не мужчина, Мэри. Я священник.
– Ах, как вы изменились, Ральф! – съехидничала она. – Вас ли я слышу, кардинал де Брикассар!
– Это невозможно. – На миг глаза его затуманились печалью. – Кажется, мне это больше и не нужно.
Она засмеялась, покачиваясь в кресле, пристально глядя на собеседника.
– Вот как, Ральф? Кардинальство вам не нужно? Что ж, я предоставлю вам еще немного помучиться, но будьте уверены, час расплаты придет. Еще не завтра, быть может, года через два, через три, но он придет. Я как Сатана-искуситель предложу вам… Пока молчок! Но будьте уверены, я готовлю вам адские муки. Никогда я не встречала мужчины обворожительнее. Своей красотой вы бросаете нам вызов и презираете нас за безрассудство. Но я припру вас к стене вашей же слабостью, и вы продадите себя, как последняя размалеванная шлюха. Не верите?
Он с улыбкой откинулся на спинку кресла:
– Верю, что попытаетесь. Но едва ли вы уж так хорошо меня знаете, как вам кажется.
– Вот как? Время покажет, Ральф, только время покажет. Я стара, у меня только одно и осталось – время.
– А у меня что осталось, по-вашему? Время, Мэри, только время. Время, и пыль, и мухи.
В небе собирались тучи, и Пэдди стал надеяться на дождь.
– Будет пыльная буря, – сказала Мэри Карсон. – Эти тучи дождя не принесут. Нам еще долго ждать дождя.
Напрасно члены семейства Клири воображали, будто уже изведали злейшие выходки сурового климата Австралии, их ждало еще одно испытание – пыльные бури на выжженных засухой равнинах. Лишенные умиротворяющей влаги, иссохшая земля и воздух с треском терлись друг о друга, едва ли не высекая искры, напряжение все нарастало и не могло в конце концов не разрядиться гигантским взрывом скопившейся энергии. Небо спустилось совсем низко и так почернело, что Фионе пришлось зажечь в доме лампы; на конюшне лошади вздрагивали и артачились от малейшего шума; куры забирались на насест и пугливо прятали голову под крыло; псы рычали и лезли в драку; домашние свиньи перестали рыться в отбросах на помойке, поглубже уткнулись носами в пыль и только поглядывали по сторонам быстрыми блестящими глазками. Все живое трепетало перед мрачными силами, заключенными в небесах, где огромные непроглядные тучи поглотили солнце и готовились низвергнуть пламя его на землю.
Из дальней дали, все ускоряя шаги, надвигался гром, малые вспышки на горизонте четко высвечивали очертания высоко громоздящихся туч, над иссиня-черными, как полночь, глубинами пенились ослепительно белые закрученные гребни. И вот с воем налетел вихрь, взвил столбы пыли, швырнул ее, колючую, в глаза, в уши, в рот, и все рухнуло. Теперь Пэдди и его домашним нетрудно было вообразить гнев Господень, как его живописует Библия: они ощутили его на себе. От ударов грома все вздрагивали, никто не мог удержаться – гремело яростно, оглушительно, будто шар земной распадался на куски, – но постепенно все, кто был в доме, притерпелись к этому грохоту, немного осмелели, вышли на веранду и неотрывно смотрели за реку, на дальние выгоны. Каждый миг десятки исполинских ветвистых молний вставали по всему горизонту и огнем полосовали небо; вереницы ядовито-синих вспышек проносились, ныряя в тучах, будто играли в какие-то фантастические прятки. Торчащие кое-где среди лугов деревья, в которые ударила молния, исходили едким дымом – и все Клири поняли наконец, почему эти одинокие стражи выгонов мертвы.
В воздухе постепенно разливался жуткий, неестественный свет, самый воздух уже не был невидим, но светился каким-то затаенным, фосфорическим огнем – розовым, лиловым, сернисто-желтым, возник странный запах, въедливо сладкий, неуловимый, ни на что не похожий. От деревьев исходило мерцание, рыжие волосы всех Клири при вспышках молний были точно огненный ореол, волоски на руках стали дыбом. Так длилось целый день, лишь под вечер буря отодвинулась на восток, и с закатом солнца весь этот ужас кончился, но и тогда не пришло успокоение, все были взвинчены, раздражены. Не упало ни капли дождя. А все-таки пережить это буйство природы и остаться невредимыми было все равно что умереть и вновь вернуться к жизни; потом целую неделю только об этом и говорили.
– Радоваться рано, – скучливо сказала Мэри Карсон.
Да, радоваться было рано. Вторая сухая зима оказалась люто холодной, они и не думали, что возможен такой холод, когда нет снега; за ночь землю покрывал толстый слой инея, собаки, дрожа, съеживались в конурах и не замерзали только потому, что до отвала наедались мясом кенгуру и салом забитого домашнего скота. В морозы по крайней мере можно было вместо опостылевшей вечной баранины есть говядину и свинину. В печах и каминах пылал огонь, и мужчины, когда только могли, поневоле возвращались домой – на выгонах ночью они совсем застывали. Зато стригали съехались веселые: в холод можно работать быстрее и не так обливаться потом. В огромном сарае для стрижки овец, в отделении для каждого мастера, на полу резко выделялся светлый круг – за полвека доски пола обесцветил едкий пот, что роняли, сменяясь, стоявшие тут стригали.
После памятного наводнения еще росла трава, но она зловеще поредела. День за днем небо затягивали тучи, а дождь все не шел. Уныло завывал ветер, проносился по равнине, гнал перед собой вихри и темные завесы пыли, и они напоминали дождь, терзали воображение призраком воды. Она так походила на дождь, эта взметенная ветром пыль.
У детей трескалась кожа на коченеющих пальцах, они старались не улыбаться потрескавшимися губами, носки приклеивались к кровоточащим пяткам и щиколоткам, и их приходилось отдирать. Неутихающий жгучий ветер никак не давал сберечь тепло, ведь дома здесь построены были так, чтобы впустить малейшее дуновение, а вовсе не защищать от него. В ледяных спальнях ложились в постель, в ледяных спальнях вставали по утрам, терпеливо ждали, пока мать плеснет немножко горячей воды из огромного чайника, всегда стоящего наготове, чтобы умывание не превращалось в пытку, от которой зубы поневоле выбивают дробь.
Однажды маленький Хэл начал хрипеть и кашлять, ему становилось все хуже. Фиа смешала горячей воды с золой, сделала из этой каши припарку ему на грудь, но он дышал все так же мучительно трудно. Поначалу она не слишком тревожилась, но шли часы, малыш угасал на глазах, и она уже просто не знала, что делать, а Мэгги сидела около братишки и, ломая руки, без конца твердила про себя молитвы. В шесть вечера, когда вернулся Пэдди, хриплое дыхание Хэла слышно было даже с веранды и губы стали синие.
Пэдди тотчас кинулся в Большой дом, к телефону, но доктор, живший за сорок миль, как раз уехал к другому больному. Запалили на сковородке немного серы и держали над ней Хэла – быть может, от сильного кашля вылетит из гортани пленка, которая медленно душит его… но в груди у него не было сил ее вытолкнуть. Он совсем посинел, дышал судорожно, прерывисто. Мэгги держала братишку на руках и молилась, у нее сердце разрывалось, больно было смотреть, как несчастный малыш борется за каждый вздох. Он ей дороже всех детей в семье; в сущности, она ему мать. Никогда еще она так не хотела быть настоящей взрослой матерью, ей казалось: будь она взрослая женщина, как Фиа, ей была бы дана сила, способная его вылечить. Фиа не может его вылечить, потому что Фиа ему не мать. Растерянная, перепуганная, Мэгги прижимала к себе содрогающееся тельце, пытаясь помочь Хэлу дышать.
Ей и в голову не пришло, что он может умереть, даже когда Фиа и Пэдди, не зная, что еще делать, опустились на колени у кровати и стали молиться. В полночь Пэдди высвободил неподвижное тело из рук Мэгги и тихонько уложил на подушки.
Девочка мгновенно открыла глаза – она задремала было, убаюканная затишьем, оттого что Хэл больше не бился в судорогах.
– Ему лучше, папочка! – сказала она.
Пэдди покачал головой; казалось, он ссохся и постарел, свет лампы падал на изморозь, серебрящуюся у него в волосах и на подбородке, в отросшей за неделю щетине.
– Нет, Мэгги, Хэлу не лучше в том смысле, как ты думаешь, но он успокоился. Бог взял его, и он больше не страдает.
– Папа хочет сказать, что Хэл умер, – ровным голосом сказала Фиа.
– Нет, папочка, нет! Не умер! Не может быть!
Но малыш, утонувший в подушках, был мертв.
Мэгги поняла это с первого взгляда, хотя никогда прежде не видела смерти. Будто не ребенок лежит, а кукла. Мэгги встала и вышла к братьям, они понуро сидели на кухне у очага, будто несли какую-то тягостную вахту, а рядом миссис Смит, выпрямившись на деревянном стуле, присматривала за крохотными близнецами – их кроватку перенесли в кухню, ведь здесь теплее всего.
– Хэл сейчас умер, – сказала Мэгги.
Стюарт очнулся от глубокой задумчивости, поднял голову.
– Так лучше, – сказал он. – Ведь это покой.
В дверях появилась Фиа, Стюарт поднялся, подошел к матери, но не коснулся ее.
– Ты, наверное, устала, мама. Иди ляг, я разожгу у тебя в спальне камин. Иди, иди ляг.
Фиа молча повернулась и пошла за ним. Боб тоже встал, вышел на веранду. Остальные мальчики помялись немного, потом вышли за Бобом. Пэдди не появлялся. Миссис Смит, не говоря ни слова, выкатила из угла веранды коляску, осторожно уложила спящих близнецов. По щекам ее катились слезы; она посмотрела на Мэгги.
– Я иду в Большой дом, Мэгги, – сказала она. – Джимса и Пэтси беру с собой. Утром приду опять, но лучше пускай маленькие побудут у нас, я, Минни и Кэт за ними присмотрим. Скажи маме.
Мэгги опустилась на стул, сложила руки на коленях. Умер, ее малыш умер! Маленький Хэл, она так о нем заботилась, так любила его, была ему матерью. Место, которое он занимал в ее душе, еще не опустело; она и сейчас ощущает на руках его теплую тяжесть. Четыре долгих года она ощущала эту тяжесть, а больше уже никогда ей не держать его на руках… Ужасно! И тут нет слез; плакать можно было из-за Агнес, из-за ран, от которых не спасала хрупкая скорлупка – чувство собственного достоинства, плакать можно было в детстве, а оно позади и не вернется. Эту новую тяжесть Мэгги должна будет нести до конца дней и жить ей наперекор. В иных людях воля к жизни очень сильна, в других – слабее. В Мэгги она была тонкой и прочной, как стальной трос.
Так и застал девочку отец Ральф, когда привез врача. Мэгги молча показала им в сторону коридора, но не пошла за ними. И очень не скоро священнику удалось, как он жаждал с первой минуты после звонка Мэри Карсон, подойти наконец к Мэгги, побыть с ней, согреть маленькую Золушку семейства Клири толикой душевного тепла, отданного только ей одной. Он сильно сомневался, чтобы хоть кто-то еще понимал, как много значил для нее Хэл.
Но это удалось очень не скоро. Надо было совершить последний обряд – быть может, душа еще не покинула тело, – и поговорить с Фионой, и поговорить с Пэдди, и дать кое-какие практические советы. Доктор уже уехал, он был удручен, но давно привык к трагедиям, неизбежным, когда пациентов отделяют от врача многие десятки миль. Впрочем, судя по тому, что ему рассказали, он все равно не мог бы ничем помочь так далеко от своей больницы, от помощников и сестер. Забираясь в такую даль, люди сами идут на риск, бросают вызов судьбе и упорствуют наперекор всему. В свидетельстве о смерти он поставит одно слово: круп. Эта болезнь убивает быстро.
Но вот отец Ральф позаботился обо всем, о чем только мог. Пэдди ушел к жене. Боб с братьями – в мастерскую, делать гроб. Стюарт сидел на полу в комнате Фионы, его точеный профиль, так схожий с материнским, тонким силуэтом выделялся на фоне ночного неба за окном; Фиа откинулась на подушки, сжимая в ладонях руку Пэдди, и неотрывно смотрела на сына, который съежился в темный комок на холодном полу. Уже пять часов, дремотно закопошились петухи на насестах, но до рассвета еще далеко.