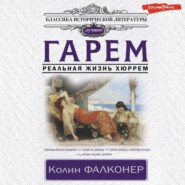По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гарем. Реальная жизнь Хюррем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ее же нужно в темницу, на бастинадо! – кричала им вслед кяхья.
Хюррем же позволила стражам побыстрее увести ее прочь по коридорам. Ведь если за нею послал сам капы-ага, это могло означать лишь одно – и отнюдь не бастинадо.
Глава 7
Над вымощенным миндалевидными булыжниками двором владений валиде господствовал мраморный фонтан с вычурной резьбой. Со всех сторон внутрь двора выходили окна.
Стражники спешно вывели Хюррем на середину двора и оставили там.
– Капы-ага велел тебе ждать. И петь не забывай.
– Петь? Зачем? Что происходит-то?
Но мужчины поспешили удалиться, не обронив более ни слова, и Хюррем лишь проводила их взглядом.
Наверно, капы-ага устроил ей смотрины у матери султана, подумала она.
Найдя у фонтана место, где камни попрохладнее, девушка уселась там по-турецки, разложила на коленях прихваченный с собою из мастерской платок, достала иголку и принялась за вышивание. А напевать при этом начала любовную песню, которой ее научила мать, – от лица парня, придавленного павшей лошадью в заснеженной степи. Замерзая и чуя близкий конец, юноша рассказывает ветру, как сильно любит одну девушку и как не смог набраться храбрости ей в этом признаться. Вот он и просит ветер донести его слова через равнину до любимой, чтобы она всегда помнила о нём. Глупая сентиментальная песенка, думала Хюррем, но ей всегда была по душе сама мелодия.
Она даже не заметила высокую стройную мужскую фигуру в белом тюрбане, до тех пор пока тень от нее не легла на шитье у нее на коленях.
– Первый закон гарема – тишина.
Вздрогнув, она подняла глаза. Мужчина стоял со стороны солнца, и девушке пришлось защищать глаза ладонью от слепящих лучей, чтобы хоть как-то его рассмотреть. Судя по голосу, не евнух, а по светлому цвету кожи – никак не нубиец. Оставался единственный мужчина, который волен был здесь разгуливать.
– Так может, нам и всем здешним соловьям глотки перерезать? А потом, опять же, пчелы. С ними же тоже нужно что-то делать. А то всё гудят и гудят без умолку. Или для них правила не писаны? – Слова эти сорвались у нее с языка прежде, чем она успела себя одернуть.
Мужчина смерил ее долгим взглядом. Тут только Хюррем вспомнила, что, прежде чем открывать рот, она должна была склонить голову в земном поклоне в знак повиновения. Она отложила вышивку и встала на колени. Она подумала, что следовало бы сразу попросить у султана милостивого прощения за нарушение тишины, но теперь как-то поздновато.
Позади Сулеймана стоял, обливаясь потом и обмахиваясь белым шелковым платком, старый кызляр-ага, главный черный евнух. Выглядел он так, будто его вот-вот хватит солнечный удар.
– Ты хоть знаешь, кто я? – спросил Сулейман.
– Властелин жизни.
– Что ты пела?
– Песню, которую узнала от матери, мой повелитель. Она о любви. И о неловком юноше, придавленном лошадью.
– Он что, лошади ее пел?
– Едва ли. Осмелюсь заметить, лошадь к тому времени лишилась всякого очарования.
– Как твое имя?
– Тут меня прозвали Хюррем, мой господин.
– Хюррем? Смешливая? Кто тебя так нарек?
– Те, кто меня сюда привез. Говорят, что якобы за мою вечную улыбчивость.
– А почему ты тогда все улыбалась-то?
– Да чтобы им слез моих видно не было.
Сулейман нахмурился. Своим ответом она его застала врасплох.
– Сама-то ты откуда родом, Хюррем?
Девушка снова глянула на него снизу вверх. Вот он, тот момент, на который всё поставлено, а она и думать не может ни о чем, кроме боли в коленях. Долго он еще, интересно, продержит ее перед собою коленопреклоненной на этой брусчатке?
– Я татарка, – ответила Хюррем. – Крымская.
– У вас, татар, у всех ли волосы столь дивного цвета?
– Нет, мой господин. В нашем клане я одна была такими обременена.
– Обременена? По-моему, так нет. Они у тебя весьма красивые. – Мужчина чуть погладил ее по волосам и пощупал одну прядку пальцами, будто оценивая качество и прочность ткани на базаре. – Прямо как шлифованное золото. Правда, Али?
– Красотища, мой господин, – согласно пробормотал кызляр-агасы.
– Ну, вставай, Хюррем.
Наконец-то. Она поднялась на ноги. Хюррем знала, что тут ей полагается потупить взор, и даже была этому обучена, но ее природное любопытство взяло своё. Так вот он каков – Властелин жизни, Хозяин мужских вый, Владыка семи миров… Привлекательный, как ей показалось, но не особо красивый и тем более не «великолепный», как его величают. Впрочем, намек на щетинистую бороду вкупе с орлиным носом все же придавал оттенок величия его лицу. Глаза серые…
Ими он и осматривал ее теперь с головы до пят, прямо как воины султана в тот день, когда отец Хюррем ее им запродал. Недовольства увиденным мужчина внешне вроде бы и не выказал, вот только вздохнул по завершении смотрин как-то долго и тяжеловато.
– Что вышиваешь-то? – спросил он ее.
– Платок, мой господин.
– Дай взглянуть. – Девушка протянула платок. – Тонкая работа. Ты великая искусница. Можно мне его взять?
– Он не закончен.
– Подготовь его мне сегодня же к ночи, – сказал он и бережно опустил платок ей на левое плечо. Хюррем успела заметить, что кызляр-ага от неожиданности даже выпучил глаза. Платок на левом плече означал, что отныне она гёзде – приглянувшаяся, – и Султан желает с ней спать. Ей говорили, что ни одна девушка из гарема такой чести не удостаивалась со времени его восшествия на престол.
Сулейман удалился, не произнеся более ни слова. Кызляр-агасы поспешил за ним.
Хюррем проводила их взглядом. «Не в бровь, а в глаз», подумалось ей. Теперь нужно просто так и оставаться зеницей его ока.
Сулейман быстро шествовал вдоль аркады. Он испытывал разом и злость, и некое облегчение. После прочитанной ему матерью тем утром нотации он понял, что выбора у него нет. Попросил капы-агу подогнать ему подходящую девушку. Выбранная им для него Хюррем ему глянулась своим эльфийским обликом и даже немного заинтриговала. В ней чувствовалось присутствие духа, в отличие от большинства гаремных наложниц – невыносимо пустых и тщеславных.
А теперь, если она от него забеременеет, мать его этим удовлетворится, а сам он сможет со спокойным сердцем вернуться к Гюльхабар и продолжить жить с нею в мире и счастии.
Глава 8
Полумесяц дрожал в остывающем ночном небе. Сулейман и Ибрагим отужинали осетриной, омаром и меч-рыбой утреннего улова из щедрых вод Босфора под шербет на меду с фиалками. Завершили же трапезу они распитием бутылки доброго кипрского вина.
Хюррем же позволила стражам побыстрее увести ее прочь по коридорам. Ведь если за нею послал сам капы-ага, это могло означать лишь одно – и отнюдь не бастинадо.
Глава 7
Над вымощенным миндалевидными булыжниками двором владений валиде господствовал мраморный фонтан с вычурной резьбой. Со всех сторон внутрь двора выходили окна.
Стражники спешно вывели Хюррем на середину двора и оставили там.
– Капы-ага велел тебе ждать. И петь не забывай.
– Петь? Зачем? Что происходит-то?
Но мужчины поспешили удалиться, не обронив более ни слова, и Хюррем лишь проводила их взглядом.
Наверно, капы-ага устроил ей смотрины у матери султана, подумала она.
Найдя у фонтана место, где камни попрохладнее, девушка уселась там по-турецки, разложила на коленях прихваченный с собою из мастерской платок, достала иголку и принялась за вышивание. А напевать при этом начала любовную песню, которой ее научила мать, – от лица парня, придавленного павшей лошадью в заснеженной степи. Замерзая и чуя близкий конец, юноша рассказывает ветру, как сильно любит одну девушку и как не смог набраться храбрости ей в этом признаться. Вот он и просит ветер донести его слова через равнину до любимой, чтобы она всегда помнила о нём. Глупая сентиментальная песенка, думала Хюррем, но ей всегда была по душе сама мелодия.
Она даже не заметила высокую стройную мужскую фигуру в белом тюрбане, до тех пор пока тень от нее не легла на шитье у нее на коленях.
– Первый закон гарема – тишина.
Вздрогнув, она подняла глаза. Мужчина стоял со стороны солнца, и девушке пришлось защищать глаза ладонью от слепящих лучей, чтобы хоть как-то его рассмотреть. Судя по голосу, не евнух, а по светлому цвету кожи – никак не нубиец. Оставался единственный мужчина, который волен был здесь разгуливать.
– Так может, нам и всем здешним соловьям глотки перерезать? А потом, опять же, пчелы. С ними же тоже нужно что-то делать. А то всё гудят и гудят без умолку. Или для них правила не писаны? – Слова эти сорвались у нее с языка прежде, чем она успела себя одернуть.
Мужчина смерил ее долгим взглядом. Тут только Хюррем вспомнила, что, прежде чем открывать рот, она должна была склонить голову в земном поклоне в знак повиновения. Она отложила вышивку и встала на колени. Она подумала, что следовало бы сразу попросить у султана милостивого прощения за нарушение тишины, но теперь как-то поздновато.
Позади Сулеймана стоял, обливаясь потом и обмахиваясь белым шелковым платком, старый кызляр-ага, главный черный евнух. Выглядел он так, будто его вот-вот хватит солнечный удар.
– Ты хоть знаешь, кто я? – спросил Сулейман.
– Властелин жизни.
– Что ты пела?
– Песню, которую узнала от матери, мой повелитель. Она о любви. И о неловком юноше, придавленном лошадью.
– Он что, лошади ее пел?
– Едва ли. Осмелюсь заметить, лошадь к тому времени лишилась всякого очарования.
– Как твое имя?
– Тут меня прозвали Хюррем, мой господин.
– Хюррем? Смешливая? Кто тебя так нарек?
– Те, кто меня сюда привез. Говорят, что якобы за мою вечную улыбчивость.
– А почему ты тогда все улыбалась-то?
– Да чтобы им слез моих видно не было.
Сулейман нахмурился. Своим ответом она его застала врасплох.
– Сама-то ты откуда родом, Хюррем?
Девушка снова глянула на него снизу вверх. Вот он, тот момент, на который всё поставлено, а она и думать не может ни о чем, кроме боли в коленях. Долго он еще, интересно, продержит ее перед собою коленопреклоненной на этой брусчатке?
– Я татарка, – ответила Хюррем. – Крымская.
– У вас, татар, у всех ли волосы столь дивного цвета?
– Нет, мой господин. В нашем клане я одна была такими обременена.
– Обременена? По-моему, так нет. Они у тебя весьма красивые. – Мужчина чуть погладил ее по волосам и пощупал одну прядку пальцами, будто оценивая качество и прочность ткани на базаре. – Прямо как шлифованное золото. Правда, Али?
– Красотища, мой господин, – согласно пробормотал кызляр-агасы.
– Ну, вставай, Хюррем.
Наконец-то. Она поднялась на ноги. Хюррем знала, что тут ей полагается потупить взор, и даже была этому обучена, но ее природное любопытство взяло своё. Так вот он каков – Властелин жизни, Хозяин мужских вый, Владыка семи миров… Привлекательный, как ей показалось, но не особо красивый и тем более не «великолепный», как его величают. Впрочем, намек на щетинистую бороду вкупе с орлиным носом все же придавал оттенок величия его лицу. Глаза серые…
Ими он и осматривал ее теперь с головы до пят, прямо как воины султана в тот день, когда отец Хюррем ее им запродал. Недовольства увиденным мужчина внешне вроде бы и не выказал, вот только вздохнул по завершении смотрин как-то долго и тяжеловато.
– Что вышиваешь-то? – спросил он ее.
– Платок, мой господин.
– Дай взглянуть. – Девушка протянула платок. – Тонкая работа. Ты великая искусница. Можно мне его взять?
– Он не закончен.
– Подготовь его мне сегодня же к ночи, – сказал он и бережно опустил платок ей на левое плечо. Хюррем успела заметить, что кызляр-ага от неожиданности даже выпучил глаза. Платок на левом плече означал, что отныне она гёзде – приглянувшаяся, – и Султан желает с ней спать. Ей говорили, что ни одна девушка из гарема такой чести не удостаивалась со времени его восшествия на престол.
Сулейман удалился, не произнеся более ни слова. Кызляр-агасы поспешил за ним.
Хюррем проводила их взглядом. «Не в бровь, а в глаз», подумалось ей. Теперь нужно просто так и оставаться зеницей его ока.
Сулейман быстро шествовал вдоль аркады. Он испытывал разом и злость, и некое облегчение. После прочитанной ему матерью тем утром нотации он понял, что выбора у него нет. Попросил капы-агу подогнать ему подходящую девушку. Выбранная им для него Хюррем ему глянулась своим эльфийским обликом и даже немного заинтриговала. В ней чувствовалось присутствие духа, в отличие от большинства гаремных наложниц – невыносимо пустых и тщеславных.
А теперь, если она от него забеременеет, мать его этим удовлетворится, а сам он сможет со спокойным сердцем вернуться к Гюльхабар и продолжить жить с нею в мире и счастии.
Глава 8
Полумесяц дрожал в остывающем ночном небе. Сулейман и Ибрагим отужинали осетриной, омаром и меч-рыбой утреннего улова из щедрых вод Босфора под шербет на меду с фиалками. Завершили же трапезу они распитием бутылки доброго кипрского вина.