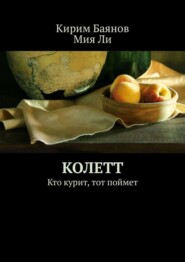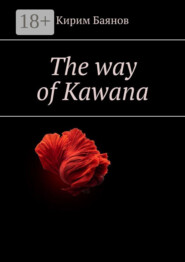По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Часы из ореха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мистер. Забыли шляпу! Мистер!
– Садись и чувствуй себя капитаном.
Сажусь, глаза разбегаются от огоньков зеленого поля с красно-фиолетовыми пятнами по рельефу дна, маячков и радаров:
– Сначала штурманом себя надо почувствовать.
– Вот то-то…
Еду. Сейчас у меня настроение кепськое…
– Как это говорится на английском с украинским диалектом? – Она всегда смеялась.
И это неизбежно.
Почему-то некоторые полагают, что если у нее португальские корни, то она parles portouges.
Едрит вашу бабушку. Точно также как я parles vu francais.
– А у диплодоков бывают зубы?
– Нет. Ты что, малышка?
– А у скорпионов?
– З-з-з… показываю только по субботам и вторникам…
Не надо мне снова показывать свой язык в ответ, – я не поделюсь с тобою своими эмоциями. Потому что они очень тяжелые.
– Давай напишем письмо президенту Обаме на туалетной бумаге. Как Санта-Клаусу. Дорогой господин президент, – не держите на меня зла, господин Обама. – Я хочу, чтобы мировой кризис наконец-то закончился… Верните мне мое детство… Пусть моя мама всегда будет рядом… Хочу побывать на фестивале Блюза в апреле и успеть на концерт в Алабаме…
Не нужно просить людей совершить невозможное. Иначе они могут попросить от тебя самой взамен то же самое.
Ну, вот. Моему настроению окончательно пришел Лаутаро.
– А тетя Пинк потерпит. Потерпит, не нужно сопротивляться моей кочерге. Она у меня заколдованная. С ее помощью я заставляю раскуривать томагавки Мадонну. – Она смотрела как мы играем. – На, держи! Кто теперь Вирджиния Вульф?
А Мадонна покурит томагавки. Покурит.
Ради господина Мэнсона, Пинк и Робби Уильямса.
Она еще не на такое способна.
– Что-то не курица, – говорит Мадонна.
– Зажигалка у тебя не такая просто…
– Это ваши теонанакатлы, Бейонс, не к черту…
– А я, – поглядывая на Робби Уильямса, серьезно говорит Мэрилин Мэнсон, – если никто не против, покурю этот бычок…
Ну что вам сказать господин Мэрилин? Все сигареты у здесь присутствующих обыкновенные, а на грядках мы работаем только с капустой и граблями.
– Просто, у меня такая же «кочерга», как и ваш друг, – говорит апарт Мэнсон. – Это ничего, что она носит на голове ноутбук с мексиканскими вазами. Они помогают ей также хорошо владеть трубками мира, как и пикадорскими саблями.
Не помню, что ты ему ответила. Но Мадонне порядком надоело раскуривать топоры вместо Робби Уильямса, и она решила расставить всех по своим местам.
– Что из этого получилось, ведает один Грин Пис, – цепляется к словам по-прежнему недовольный Мэнсон и раскуривает бычок Робби Уильямса. Непереводимая игра слов на русский.
Я долго смеялся.
– Ну, я подумаю. Докуривать мне его или нет…
– В таком случае, я за господина Обаму. Снимайте ваше платье, господин Уильямс. Отдавайте свой зонтик, мисс Ри. Я буду его раскуривать. А-то тут томагавки не на всех роздали…
Дядя злой, дядя добрый… Не читай этого, малышка. Это для мамы… Дядя грустный, дядя веселый… у дяди все переворачивается там внутри, когда он переворачивает листы своих мелких записок. И потому я оставляю их здесь, – исписанные и испачканные, заштрихованные шариковыми чернилами, начерканные и переисправленные. Я буду их оставлять в каждом мотеле, мелькающем у меня перед глазами, словно гордонии и фраклинии, «Мери Кей» и ночной дождь в Хоббокене, синие кепки, и чайные кружки, выдавливающие отпечатки на белых форматах А4, – таких, которые можно раздобыть везде, где только есть принтеры.
И мне нечего больше сказать, потому что нечего больше почувствовать. И если есть что-то, что заставит меня почувствовать, дайте мне это. Я проглочу, прожую это как таблетку. Потому что нет музыки, и ничто не заставляет мое сердце биться чаще. Здесь плохо ловит радио. А завтра я снова буду слушать его и, возможно, кто-нибудь что-нибудь сыграет в унисон моему настроению.
Так мало?
Да мало.
Хорошего всегда мало…
А ты что же думала? Я буду уподобляться людям, которые отыскивают больные точки в самых труднодоступных местах человека и давят, давят на них, пока те не заплачут?
– Нет, мама. Папа тебя любит. Он хочет, чтобы ты всегда была рядом… – Так? – Нет, папа, не уходи. Не надо. Посмотри, какой теперь у меня портрет!
Это еще что.
Хочешь посмотреть на мой?
Дориан Грей.
– Ладно. Давайте мне эти топоры, – скрипя сердцем, бурчит Мадонна. – Я буду их раскуривать…
– А я не дам тебе свою зажигалку, – всхлипывает Бейонс. – Кури их теперь как хочешь…
Отставляю чашку с последней каплей, которую вытрушиваю себе в рот, тушу окурок и натягиваю футболку. Надо бы взять еще чая. Крепкого и несладкого, такого, от которого вяжет во рту. Благо, что рядом очередное кофе и мне до него идти двадцать шагов.
А чайника нет, и в номера подают только простыни, – это мотель.
Снова тебе в носу кажется, что ты чувствуешь дым. Это мой. Да, сейчас я его брошу. Сколько можно? Возвращаться с чашкой кипятка и ставить ее на стол. Снова и снова, копаться в воспоминаниях, разглядывая белый лист.
Забываться, вспоминая города и ориентиры Леже – Сен Жон Перса и разглядывать птиц по утру застывших подобно каменным истуканчикам на проводах.
Бледное, восходящее солнце медленно поднимающееся над серыми сумерками, застает меня врасплох и я забываюсь, глядя в пустоту нетронутого Эрих Краузе прямоугольника, – плоского и белого, – прилепленного к столу, а в голове роятся мысли и слова, эмоции от которых беспорядочно тают в предрассветной дымке. И я проваливаюсь в Паттерсоне еще в одну ночь, которая превратилась в день. А на стоянке в Вилласе, меня встретит Боб и торгующий очками с лотка паренек. Будут заглядывать в мои заплывшие синяками глаза.