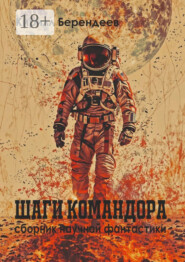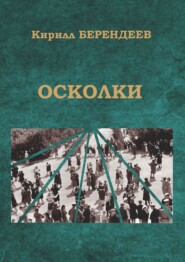По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опасная профессия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Уже, – изрек Шрам. – Только родных предупредили и сразу уже.
– Скверно, но ладно. Дальше, Спицын.
– Тот еще жук, – повторил свое обвинение охранник.
– Возможно. Но шансов убить у него имелось крайне мало, разве, с порога, да и то, ему еще надо было подойти и выстрелить почти в упор. И сделать это до того, как пройдет электричка, иначе выстрел вы бы услышали. Все дальнейшее время, Спицын мог только громко ругаться, возможно, так и делал, чтоб на него не подумали. Таким образом, переходим к Григорьеву.
– Да не может быть, – тут же влез Ушинский. – Он же мышь серая…
– К тому времени, когда часы стали бить пять, Григорьеву стало известно, подозревает ли его Счетовод или нет. Вероятно, вышла ссора, Свириденко достал пистолет, кто знает, как обстояло дело, но Григорьев завладел им и догадался в момент одного из ударов выстрелить в Счетовода, – я посмотрел на охранника и прибавил: – К сожалению, у него одного имелся не столько мотив, сколько возможность для совершения преступления. А почему и зачем, этого я сказать не могу.
– Стало быть, первый кассир, – хмыкнул Шрам, играясь с «бабочкой». – Звоню старику, порадую. Заодно и своим, позову работать.
– Погодите, – возмутился охранник. – А как же чайник? – я слышал, когда Григорьев ушел, как чайник закипел.
– Именно, как закипел. Он еще и сообразил включить его, чтоб создать видимость, будто Счетовод еще жив и поставил чайку согреться. Через пару минут после ухода прибор закипел, и вы подумали, что со Свириденко все в порядке. Вы же, когда тело поднимали, решили, что трупное окоченение не наступило, а выходит, уже сходить стало.
– Не быстро ли? – сомневаясь, спросил охранник.
– Нет, окно ж открыто было, в него суховеем дует. Душно тут, хоть кондиционер и работает, окоченение должно сходить за пару часов.
Не то Григорьев это придумал, не то сам Счетовод за каким-то рожном открыл, может, увидел кого.
– На обычного кассира не похоже, – буркнул страж.
– Когда дело касается шальных денег, мало кто становится на себя похож, – заметил Аркадий, хмыкнув. – Воровать, как в покер играть, надо иметь морду кирпичом и загребущие руки.
Ушинский буркнул что-то неразборчивое, но спорить не стал. Шрам направился к выходу, умудрившись при этом той же рукой, в которой держал нож, достать мобильник.
– Странно только, что окно было открыто. Не помните, Свириденко его так и держал? Вы ж заходили до появления первого кассира.
– Да какая разница? – возмутился Шрам, отрубая связь. – Дело закрыл, чего еще гоношиться.
У него на лице появилось явное желание схватить меня за шиворот и вытолкать из кабинета. На его несчастье, возле ножки стула что-то блеснуло, заинтересовавшись, я вернулся, поглядеть поближе. Нет, всего лишь засохший пузырь крови. Коснулся его рукой и тут же отдернул, будто обжегшись. Кровь оставалась еще влажной.
Ботинки затопали перед носом, недовольный Шрам действительно, что ли, захотел вытащить меня наружу, вот только в последний миг увидел кровь на пальцах и замер. Как замерли его ботинки, слегка запачканные грязью с газона и каплей засохшей крови. Как ни три нубук, впопыхах ее не счистишь. Как я сразу не заметил? Как вообще не догадался присмотреться к тому, кто всю дорогу старательно опекал меня? А еще решил повыделываться перед охранником, блеснуть игрой ума. Доигрался.
– Зачем же ты его так, Аркаша? Из-за тогдашнего? – спросил я, неловко поднимаясь на ноги. Шрам поигрывал ножом, приближаясь, в кабинете мы остались наедине. А мне и защищаться-то нечем.
– Тебе что? А хоть бы и так, не все едино? – сынок подошел вплотную, поднял, лезвие полыхнуло в сантиметре от глаза. – Что в прошлый раз стуканул, что в этот мог. Взял, что надо и к стороне.
– Значит, папашку бояться перестал, – против поли произнес я.
– Разнюнился он, с казино этим, ослаб. Грех это, – Шрам коснулся лезвием щеки. Я вздрогнул, почувствовав как лезвие начало пороть кожу.
– Знал про часы-то? – зачем я его спрашиваю, совсем ума решился, что ли? – Потому и через окно?
– Чудеса дедукции, жаль, невовремя, – усмехнулся Шрам. – Оно давно на соплях держалось, что же, через пост ломиться, когда втихую потолковать надо? Вот и потолковали. Он на меня пестик высунул, смешно, что купил, если стрелять не смеешь. А ты кстати ситуацию разрулил, идем, обскажешь все старику, и попробуй только…
Хлопка выстрела я почему-то не услышал, увидел, как Шрам медленно начинает валиться набок и опадает, цепляясь рукой за мою рубашку. Я осторожно опустил его на пол, разогнулся – и встретился взглядом с Ушинским.
– Ты что натворил? – тихо произнес я. – Он только попугать вздумал.
Охранник замер на мгновение, но ничего не сказал. Лишь подошел, ботинком отбросил нож в сторону. Кровь убитого смешалась с кровью убийцы. Некоторое время он молчал, тяжело дыша, вдруг произнес так, что я недоверчиво глянул на Ушинского, ровно другой человек со мной беседовал.
– Прикончил подонка. Давно собирался, а все никак не решался. Столько лет терпел, а тут на тебе, раз и готово. И чего мучился так долго?
– Он всего лишь хотел, чтоб я… – а какая теперь разница? Никто не поверит, а если и согласятся, так старик, все одно, велит найти и обоих положить. Месть, дело святое, от этого не отказываются. – Кто вообще тебя просил? У меня жена, ребенок, что теперь…
– Точно сдох? – коротко спросил он, я машинально кивнул. – Давай ходу, пока второй не приперся, а я тут разберусь. Ну, что стал, дергай! – он уже без стеснения обращался ко мне примерно так же, как я к нему получасом ранее. Мы будто местами поменялись. – Беги к Шатуну, скажи, Ушинский умом тронулся, сына убил, его шестерку, – выстрел, еще один, – тоже ухайдакал. Не стой, двигай, живо!
Не глядя на спасителя, я неловко перелез через подоконник и спрыгнул. Нога отозвалась резкой болью, я стиснул зубы, но побежал, сам не зная, зачем, все быстрее и быстрее. Будто в эти минуты мог скрыться от самого себя.
Странная смерть Виталины Чернецкой
В Спасопрокопьевск я вернулся через восемь лет после спешного отъезда, почти день в день. Восьмого отбыл, шестого прибыл. Вроде по делам, но вот уже сутки прошли с момента заселения, а я все никак не мог заставить себя заняться ими. Придумывал тысячу мелочей, чтобы оставаться в номере, но не выдержал, желание побыть там и навестить тех оказалось сильнее. Да и ночью мне снилась она, единственная, в итоге, гостиничная постель показалась прокрустовым ложем. После обеда – по времени, но не по желанию, – я отправился,… наверное, навестить память о ней, жившей некогда на Осенней улице в доме номер шестнадцать.
А там будто ничего и не поменялось. Вот только людей подле него оказалось изрядно, как в те дни, когда Вита покинула наш мир. Тогда возле дверей небольшого строения на выселках тоже собирались и зеваки, и журналисты, и какие-то службисты в штатском, настолько заметные среди горожан, что я, пытаясь сглотнуть комок, подступавший к горлу, удивлялся, чего они явились без формы, все одно погоны видны даже сквозь свитера и куртки.
И сейчас без них не обошлось, правда, нынче у дома дежурил один патрульный, не скрывавший сержантских звездочек. Я поежился, но подошел поближе. Виталина, Вита, Виточка, что же ты так…
Всего лишь дворовая распродажа, такие случаются довольно часто в подобных местах, в подобное время – последняя суббота августа, всего ничего до конца сезона отпусков, начала учебной поры. Потолкавшись немного, я продвинулся поближе ко входу в гараж, внутри коего находились продаваемые вещи, в основном, мебель и посуда, от которых владельцы решили избавиться, посчитав срок в восемь лет достаточным для окончания даже формального траура.
Всем верховодил ее брат, Станислав, впрочем, как и всегда; мать Виты сидела на лавочке возле дома с отрешенным видом, ни на кого не глядя. Вот и на меня, подошедшего почти вплотную, не обратила внимания. Прежде, помнится, постоянно делала замечания, поминая меня в третьем лице, будто я находился где-то далеко. Сейчас она заметно сдала, уход дочери подкосил и прежде слабую женщину. А вот Стас почти не изменился, пожалуй, закалился даже. Сейчас он был занят разговором с денежной парой, приценивавшейся к дивану. Беседа завершилась, Стас потащил покупателей в дом, на ходу сорвав с дивана бумажку с ценой.
Большая часть продаваемой мебели находилась в комнате Виты, брату надоело постоянное соседство с источником воспоминаний. Прошло столько лет, память поблекла, превратившись в родник неприятных мыслей. Тем более, их обоих столько доставали подробностями ухода Виты.
В ее комнате, между только проданным диваном и еще поджидавшей своей участи этажеркой, мы виделись последний раз. Вита нервничала, разговор не клеился. Я пытался отговорить, но она упорно стояла на своем, мы вроде и ругались и обсуждали давно приевшуюся тему, ровно супруги после многолетней совместной жизни. Как же мы так быстро успели надоесть друг другу пустышными словами, изрекаемыми без повода? Тем более, странно, ведь тогда ей исполнилось двадцать четыре, мне годом больше. Чуть раньше нам казалось, мир не может существовать для нас поодиночке. С момента знакомства прошло два года, всего или целых? Сейчас и не скажешь.
В споре Вита обронила, что очень бы хотела убраться от всех нас, от меня, от брата, от другого ухажера, раз и навсегда. И через несколько часов после нашей никчемной ссоры она так и сделает, Стас найдет сестру лежащей на полу с ножом в груди, а рядом, на журнальном столике окажется записка, в которой будут повторены те самые слова. Брат тогда скажет журналистам – подумал, Вита собирается уехать на дачу. И еще какое-то время будет утверждать, что она собиралась туда отправиться. Неудивительно, что после слов Стаса следователи навестили меня повторно.
Я поежился, вспоминая. Подошел к дивану, пальцы коснулись валика.
– Извините, молодой человек, продано, – пара вернулась, муж запихивал бумажник в слишком тугой карман джинсов, его супруга взглядом собственницы глядела на меня, посмевшего посягнуть на чужое имущество.
Я кивнул, отойдя. Распродажа шла ни шатко, ни валко, зеваки, собравшиеся у дома на Осенней, больше вспоминали события восьмилетней давности, нежели собирались что-то прикупить. Шептались, кто-то фотографировал, кто-то снимался на фоне. Брат попытался урезонить, напрасно, попросил патрульного. Тот оторвался от газеты, подошел, попросил прекратить – можно подумать, это кого-то останавливало.
Второй, Марат Шелгунов, тоже делал снимки, бог его знает, зачем. Я видел из полицейской машины, как он тщательно, будто сам проводит расследование, фиксировал обстановку в комнате Виты. Мне тогда очень хотелось сказать пару ласковых. Не успел, машина уехала, увозя меня на допрос.
Брату он нравился, а как еще Марат мог появиться в жизни Виты? Наглый, холеный, он смотрел на всех взглядом удава, попавшего в кроличью нору. Вита не была исключением. Я все пытался угадать по ее глазам, как та смотрела на потенциального жениха. Меня Марат терпеть не мог, неудивительно: я проигрывал тому во всем. Детдомовская голь, невесть как попавшая в семью зажиточных интеллигентов в третьем поколении. Конечно, я их всех бесил, кроме Виты. Но та хотя б не снисходила ко мне. Любила, наверное, это тоже уместно сказать.
Но как она относилась к Марату? Этот вопрос не давал покоя с самого момента появления нувориша, поднявшегося незнамо каким способом к посту директора центрального городского универмага. Марат старательно прятал всякие приметные черты биографии, при случае либо выдумывая что-то правдоподобное, что всякий раз, не выдержав проверки, все равно оставалось деталью иллюзорного жизнеописания, либо затушевывая истинные подробности того или иного события.
Меня это особенно бесило в нем, впрочем, мы оба не выносили друг друга. Вита одно время пыталась стать меж нами посредницей, с той поры и появилась первая трещина, первое подозрение, что моя ненаглядная, имеет определенные виды на Шелгунова. Сколько раз я пытался прояснить этот вопрос, столько и получал обнадеживающий ответ, долженствующий уверить меня в прежнем ко мне отношении. Но что-то не складывалось, прежней веры, после нескольких попыток примирения, после долгих свиданий Виты с Маратом, уже не оставалось. Я ревновал, что скрывать, я боялся утратить ее, возможно, уже лишился, но верить в подобное не хотел. Только в увядающую любовь, в те дни, которых нам так не хватало прохладным августом восемь лет назад.
И тогда я завел разговор о Марате. Именно после моих очередных обвинений, Вита и выпалила в сердцах. В сердцах ли?
Я отошел от дивана, коря себя за прибытие на Осеннюю, в самом деле, что я тут забыл?