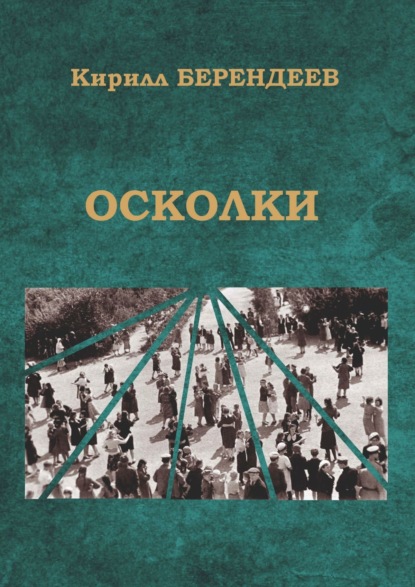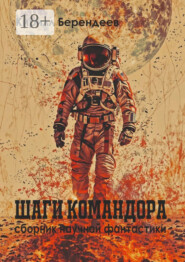По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Осколки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вам известно, в каком вагоне приедет наш гость?
Юноша покачал головой. Затем ответил, подбирая слова много тщательнее, нежели при первой встрече:
– Вагоны в Милите брались «на ура». Он едет или в голове поезда или в его хвосте. Будем смотреть.
– Да, будем смотреть.
Поезд останавливался, двери распахивались, пассажиры покидали вагоны, не дожидаясь полной остановки состава. И так же спешили зайти – стоянка всего две минуты, и каждому хотелось занять место получше.
Вышедшего из предпоследнего вагона человека в потертой шинели с сержантскими нашивками, старик узнал сразу. Не ожидал, что так получится, но высмотрел среди покинувших состав, и только увидев, немедленно остановил на нем свой взор.
– Заметили? – юноша тоже глядел в сторону подходящего солдата. Снова безо всякого выражения на лице. Старик почему-то не хотел, чтобы с выбранным им человеком первым встретился кто-то, кроме него, и потому поспешил, обогнав ординарцев, к усталому солдату, кутающемуся в не по сезону теплую шинель.
– Добрый день. Вы Максим Волохов? – солдат кивнул, останавливаясь. Нетяжелая котомка на плече составляла все его имущество. Отер холодный пот со лба. Кажется, выздороветь ему так и не дали, спешка, вечная спешка.
Разговор с полковником отнявший столько сил, немедленно вспомнился ему, слова предупреждения об очередной ошибке зазвучали, будто произнесенные секунды назад.
– Я Иван Ильич, – он обернулся, чтобы представить ординарцев, но не успел. Голова закружилась, старик вцепился в худое плечо солдата, пытаясь сохранить равновесие. Ответных слов не услышал.
Бездна открылась перед ним, та самая полуночная бездна, видения которой преследовали его уже больше года – и теперь он, казалось, не отгороженный от жадных краев ее ничем, готовился упасть в никуда, в бесконечность, медленно соскальзывал в стремительные потоки, водовороты безвидного нечто, готовые подхватить, умчать, утащить в разверзшуюся воронку. Поглотить без следов, оставив на месте лишь бессмысленно усмехающийся полутруп, тело, лишенное разума, той неистовой силой, которой, казалось, не дано противостоять.
И все же уголком подсознания старик понимал, что видит лишь смутное видение, осколок истинного кошмара, тот самый осколок, который он столь долго и столь тщетно искал – все это время. И потому лишь он смог отвести взгляд, отвернуться от бездны. Возвратиться в мир, буквально, за мгновение до казалось, неизбежного, окончательного падения в кипящее вращающееся нечто, не имеющее ни формы, ни размера, ни цвета, ни запаха. Приходившее в мир и уходившее из него по собственной воле – и всякий раз одним присутствием своим менявшее сложившуюся картину бытия, разбивавшую на куски и снова склеивающую по живому; грубо, неумело, подобно ребенку, только научившемуся подбирать разрозненные картинки мозаики, но не видящему в них ни малейшего смысла. И оттого картинка, создаваемая им, выходила странной, противоестественной, невозможной – и тем не менее, оставалась именно такой; продолжала существовать, не рассыпаясь. Такова была новая воля. Кому, кроме самого конструктора, решать, будет ли созданное хорошо.
Старик очнулся, огляделся. Ординарцы держали его под руки, тревожно вглядываясь в лицо.
– Благодарю вас, – сказал он, отцепляясь от держащих рук, отводя глаза от встревоженных лиц. – Все в порядке. Спасибо. Это бывает. Головокружение. Перемена погоды.
И замолчал, снова глядя на солдата. Тот стоял рядом, так же готовый придти, если потребуется, на помощь. Старик протянул ему руку. Волохов неохотно пожал ее, опустил взгляд, а затем спросил, немного резко:
– Так это вы по мою душу? – старик, чувствуя слабость голоса, только кивнул в ответ. – Из особого отдела.
Не вопрос, скорее, определение очевидного. И пауза, зависшая над перроном. Начальник станции торопливо прошел мимо них, держа смотанным желтый флажок – сигнал к отправлению поезда.
– Вы правы, – наконец выдавил из себя старик. – Правда, по иному вопросу.
Сердце потревоженное мыслями, застучало сильнее.
– Какому же?
– Узнаете, – неожиданно вмешался Валентин. – Нам пора ехать.
И повернулся, уходя с перрона. Волохов догнал его, резко схватил его за руку.
– Подождите, – голос померк, но через мгновение зазвенел серебряным колокольцем. – Это как-то связано с моим возвращением… оттуда? С тем, кто прибыл со мной….
– Нет, – ответил за ординарца старик. – Это связано только и исключительно с вами. Только с вами. Можете в этом не сомневаться.
Последняя его фраза прозвучала почти восторженно. Все трое взглянули на старика. И только гудок паровоза, отправлявшегося дальше на запад, прозвучал, словно в подтверждение его слов.
Старик не сомневался более. Бездна была рядом, это наполняло его и страхом и восторгом. И так хотелось сказать незнакомому солдату обо всех своих переживаниях, обо всем, что предшествовало их встрече.
Бездна рядом. И это самое важное.
– Садитесь в машину, – произнес Валентин. – К сожалению, у нас не так много времени для выяснения всех деталей. Обстоятельства против нас.
Глава шестая
Морось, продолжавшаяся весь переход, внезапно прекратилась. Но солнце по-прежнему прячется за плотной пеленой туч, так что создается ощущение постоянного предрассветного утра незаметно переходящего в вечер. Группа отделяется, командир последний раз смотрит в мою сторону и показывает кулак с оттопыренным большим пальцем, обращенным вверх. Мол, все в порядке, начнем, как и было запланировано.
Группа – девять человек, включая командира – уходит, теряясь в плотной пелене неведомого. Линии фронта нет, она условна вот уже два месяца, трудно сказать, где располагаются свои части, постоянно маневрирующие перед опасностью обнаружения противником, и где чужие, поступающие в точности так же. После долгих изматывающих боев весны, наступившим летом знаменуется затишье. Войска то уходят в глубь собственной территории, то снова приближаются к противнику на расстояние артиллерийского выстрела. Выманивая его на боестолкновение. Пытаясь осуществить свое основное предназначение: обеспечить должный перевес перед чужаком в нужные три раза хотя бы на нескольких километрах фронта – и тогда – внезапный удар, прорыв, новый удар в освободившееся пространство. Части вкатываются на захваченную территорию и расползаются по ней подобно ртути, отрезая части рубежа от снабжения, замыкая сперва в клещи, а затем и в котел, круша и перемалывая до победного конца.
Впрочем, последние слова во время затишья не слышны. Разговоры идут лишь о временном перевесе, об удачной передислокации. Информбюро тоже молчит, день ото дня передавая вместо сводок сообщения о тружениках тыла, совершающих подвиги ради тех, кто пошел на фронт. После затяжных боев весенних месяцев число призывников резко возросло, это не мобилизация, скорее, душевный порыв, схожий с тем, что был в дни объявления войны.
Впрочем, никому вслух не хочется произносить неприятное слово. Ведь мобилизация означает только одно – война станет всеобщей, войдет в каждый дом. Начнет ежедневно собирать свою дань, уже со всех жителей. И тогда не останется непричастных. Тогда в действие будут введены совсем иные правила жизни. Те самые, о которых пока, даже после серьезных потерь на фронте, никто не говорит вслух.
Кто не с нами, тот против нас.
Сейчас еще можно говорить о безжалостности войны, о неудачном руководстве кампанией. Печатать статьи в газетах, не соответствующие высокому моральному духу сражающейся отчизны – это так теперь называется. Вести беседы о нецелесообразности решения политических задач военными методами. Подсчитывать расходы на оборону и сопоставлять их с реально выделенными из бюджета средствами, оценивая погрешность отнюдь не долями процента.
Но тыкать этим в лицо, выступать на митингах, возмущенно бросать обвинения – это уже равносильно добровольному сумасшествию. Были разгоны. Были аресты. Были суды. После приказа – судов уже не будет.
Туман с каждым днем становится все гуще. И до заветных слов остается совсем немного времени. Особенно, если пауза прервется, передислокация закончится, и удар последует. Не наш удар.
Меня оставляют в дозоре, следить за узкой тропкой перед сараем: по ней может пройти – а может и не пройти, и это тоже неизвестный фактор – солдаты из комендатуры с проверкой. Обычно проверяющие, как сообщила другая группа, проведшая здесь всю прошлую неделю, эту тропку используют редко, только когда хотят срезать крюк, так что моя задача тоже неопределенна. Группа теряется в пелене тумана, окутавшей добрую половину фронта, столь же иллюзорного, как и все вокруг. Мы, уходя в тыл противника, не можем сказать с уверенностью, на чьей сейчас территории, но искренне надеемся, что не забрались слишком глубоко. Или напротив, не выбрались на своих. Прошли часы с момента ухода, а за этот срок наши части могли получить новый секретный план свертывания-развертывания, сняться с места с намерением заманить врага, именно в те минуты, когда мы покинули свой бивуак, отправляясь на разведку.
Это не первый мой уход за передовую, которой нет. Третий, если быть точным. Вот только первые два я не хочу трогать даже в воспоминаниях. Это были походы в пустоту. А первый раз все закончилось перестрелкой со своими – именно по той причине, которую я поминал прежде. Двое раненых и один убитый, артиллерийская канонада на полчаса и еще двадцать два трупа. Наш визит по прилегающей территории это и попытка узнать, имело ли какие-то последствия несуразное боестолкновение. И что предпринято в ответ.
Сарай, который будет служить местом моего наблюдения, только что досконально обследован нашей группой. Он расположен очень удачно, неприметное строение, давно заброшенное, заросшее подушечками кукушкиного льна, имеет два этажа. Вход на второй ведет через чердачную крышку, к которой была прислонена лестница, теперь валяющаяся в глубине крапивы и борщевика. Они окружают сарай со всех сторон, так что подойти к нему, не потревожив мощную поросль, невозможно. Ветра нет, любое шевеление может означать только одно.
В оба слуховых окна я просматриваю пейзаж на значительном удалении от сарая. Быть может, именно поэтому его столь тщательно обследовали. И будут обследовать еще и еще раз. Уже другие. С той стороны.
Возможно, они делали это прежде нас. Но следов пребывания человека в сарае нет. Первый этаж милостиво отдан крысам, шурующим сейчас в двух метрах подо мной, второй полностью в моем распоряжении. Щели в крыше и слуховое окно, удачно выходящее к особняку – подлинной цели путешествия основной группы, – дают мне возможность кругового обзора, не вставая с той лежанки, где я расположился, стараясь как можно меньше тревожить пыль и паутину второго этажа.
Я располагаюсь у окна, винтовка лежит так, чтобы в любой момент ее можно было бы взять в руки и повернуться для использования по назначению, не потревожив раньше времени беспокойных хозяев дома. Хотя, признаться, мне этого очень не хочется. Я стрелял из нее прежде, но еще ни разу она не приносила смерть.
Тишина вокруг, липкая ватная тишина, пропитанная потом жаркого перехода и сыростью погоды. Достаточно провести рукой, чтобы она стала мокрой от застывших в воздухе испарений. Или от той мороси, что до сих пор не долетела до земли. И в ней хорошо, слишком хорошо стали слышны беспокойные хозяева дома. Они подскажут мне, в случае чего, о визите чужака, но они и выдадут меня своим беспокойством. Сколько еще нужно времени, чтобы хозяева сарая приняли бы меня за своего и занялись обыденными делами?
Сборы наши, проходившие весной в тыловой части, внезапно ставшей слишком близко к подошедшему рубежу, и без того скомканные, закончились на половине срока. После чего фронт сам подошел к бывшим призывникам, отправившимся из Свияты под грохот бомбежек, заставив их решать нелегкий вопрос немедленно. Почти все ответили согласием, я поколебался было, но понял, что в данный момент мое мнение почти ничего не решает: разве что место на линии фронта. И те, кто не ответил согласием, тоже остались. Ведь фронт не собирался отступать.
Я всегда хорошо стрелял, верно, в сопроводительных документах этот факт подчеркивался, поскольку, из общей группы после катастрофически проведенной весенней операции, я был выделен немедленно. И неожиданно для себя отдан в распоряжение разведгруппы майора Стеклова, лично занимавшегося мной в течении всего времени кратких сборов. А затем ходатайствовавшего перед начальством о зачислении меня под свое начало.
Тогда я даже не смел спросить, за что мне выпала эта честь. Был преисполнен гордости и считал себя невообразимым везунчиком, встречаясь с бывшими соратниками.
Несколько недель новых целенаправленных тренировок – капитан, новый глава разведгруппы, поставленный вместо майора Стеклова – был вполне доволен и моей стрелковой подготовкой и умением ждать и выгадывать позицию. А остальному я буду обучаться на практике. Поредевший фронт надо спешно законопачивать.
Дозорным я стал впервые. И хотя моя задача удивительно проста, именно простота ее и волнует, заставляя учащенно биться сердце. Я стараюсь успокоиться, вглядываясь в пустой мир, закрытый пеленой, и надеюсь, что группа вернется и без моего вступления в дело. Что все случится как в оба прошлые раза: тихо и пусто.
Ведь до сей поры моя винтовка стреляла только по мишеням.