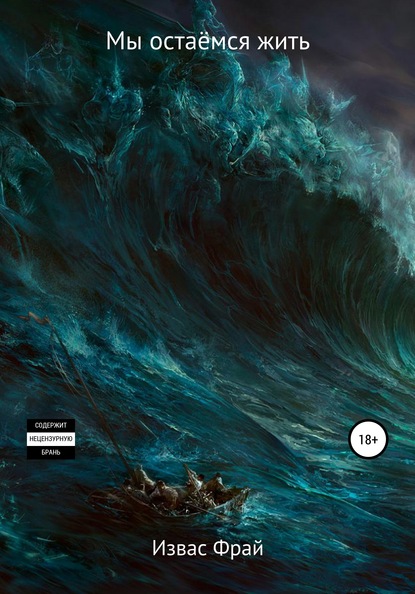По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы остаёмся жить
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Мария – в ней было нечто волшебно-человеческое и правдивое. То самое свойство, что в глазах других и старуху запросто может превратить в девочку. Этим она притягивала всех, кто её окружал; и даже тех, кто видел её впервые. Но это, конечно, было лишь первым впечатлением. Чем ближе ты подбираешься к ней, тем больше понимаешь, сколько слоёв скрывается под её невинно чистой кожей. Дьяволица, принцесса; невинная и распутная – это всё была она. И как только такой герцогине сердец было достаточно одного Жоржа – маленького и наивного солдата, которого вскоре неизбежно позовёт за собой судьба в преисподнюю передовой?! Ей нужен был такой как я – опытный, мудрый и видавший больше, чем кто-либо из людей. Она нужна была мне – разбавить собой серую горечь бесконечно тянущихся вдаль дней. Я должен был ждать, пока они закончат свой танец вдвоём, чтобы втиснуться в него в самый подходящий момент. Ждать, а затем появляться вовремя – это то, чему я учился не одно столетие и в чём достиг несравнимого совершенства. И Фридрих – мог помочь мне в этом по-своему.
– Буржуйка?
Мой немецкий друг вернул меня на землю.
– Что, ещё раз?
– Буржуйка она? Или из наших?
– Даже не знаю, что ты можешь иметь ввиду под «из наших», но семью её, до недавнего времени, можно было назвать состоятельной. Она член комитета женского самоуправления.
– Ясно. А она знает, за кого она будет голосовать?
– Ты про что?
– Про выборы в новое правительство.
– А разве власть себе в руки не забрал Центральный комитет национальной гвардии?
– Да, но на собрании комитета было решено, что правительство будет составлено согласно решению народа. Завтра будут проходить выборы. Я думал, об этом знают все.
– Завтра посмотрим.
– Надеюсь, ты не станешь доверять такие важные решения, как выбор правительства, воле случая.
– Знаешь ли, дорогой Фридрих, мой богатый жизненный опыт – не раз убеждал меня в том, что самые важные решения – лучше всего принимать по мановению судьбы, вверяя их случаю или настроению. Ведь эта революция тоже, хоть и готовилась годами – произошла по чистой случайности.
Внезапно, я ощутил усталость. У меня закружилась голова, закололо в желудке и стало скрипеть в ногах. Я понял, чем для меня могла обернуться революция – долгожданной смертью. И тогда мне было невыносимо хорошо, хоть я и понимал, что хоть сейчас могу потерять сознание и свалиться с ног.
– Тебе нехорошо? – спросил Фридрих, – я просто думал обговорить политику с мадмуазель и её кавалером, если ты познакомишь меня с ними сегодня… Да что с тобой?
– Всё в порядке – просто немного устал, – отмахнулся я, – все эти революции и свержения власти – так утомляют. Не могу поверить, что говорю это: но я никогда не чувствовал ничего подобного.
– Друг, может тебе обратиться к врачу? Я тут познакомился с одним…
– В последний раз я был в кабинете у врача двести лет назад – и то, с целью убить его, – выкрикнул я с неожиданной даже для самого себя резкостью.
Все мы – вдыхали тогда запах революции и свободы. Мы знали: никому больше не удастся заковать нас в цепи. Врагу больше никогда не победить нас, потому что все мы – стали братьями. И мы понимали: нас и всех, кто придёт за нами – ждёт счастливая, новая жизнь.
И в этот момент, под обеспокоенным взглядом Фридриха, я падаю на землю и теряю сознание.
Солнцестояние Первое
Всегда ли мы должны оставаться такими, какими привыкли быть?
Из помятой временем картонной коробки я достаю сияющую новизной пластинку и кладу её под иглу граммофона. Она начинает вертеться вокруг своей оси. Для меня это всегда магический момент. Я уже замер в ожидании музыки. И спустя секунду, воздух вокруг уже заполнился теми самыми прекрасными звуками, которых я ждал. Это были лёгкие и печальные женские голоса в сопровождении медно-духового оркестра. Они пели о жестоком, беспощадном мире; и о красоте любви, которую им удалось в нём отыскать.
Я слушал эту пластинку сотни, если не тысячи раз. Тем временем, у меня осталось всего одна сигара – затем о роскоши придётся на время забыть. Всё равно я больше не испытываю ни малейшего удовольствияот них – так привык. Выдыхая дым, я делаю музыку как можно громче. Окна и двери моего дома надёжно закрыты. Вот-вот это должно было начаться – полностью уберечь себя от невыносимого шума мне всё равно не удастся, зато я смогу сделать вид, что ничего не замечаю. Затаив дыхание и я, и все жители этого маленького городка ожидаем того, что неизбежно должно было произойти. И вот, совсем недолго осталось.
Артиллерийский залп и правда не заставил себя долго ждать.
Война бушует уже шесть лет. Но теперь, к счастью, ей уже недолго осталось.
Пыль и грязь поднялись в воздух, а некоторые стены даже начало шатать вправо-влево. Орудия противника, по звукам, находились километрах в тридцати от нас. Ситуация такая, что мне хочется пошутить, да не с кем. Страха перед мощью противника я не испытывал совсем – испугались лишь те, кто думал, что им есть, что терять. А я, тем временем, вёл себя так, будто просматривал документальный фильм о войне, которая кончилась лет двадцать назад и проходила где-то на соседнем континенте. Безответственно, цинично – да, именно так; но это лучший план действий, когда точно знаешь, что от твоего решения – теперь совсем мало что зависит, даже если ты офицер.
Шум и ярость долго ещё отзывались эхом по нашим улицам. Но стоило моей пластинке доиграть до конца, как и артиллерийские залпы смолкли. К сожалению, из памяти тех, кто хоть раз их слышал – так просто они не уйдут.
Мой дом и все те, чьи лица и имена мне были известны – на этот раз уцелели. Потому что целью были не мы. О существовании нашего гарнизона, видимо, забыли и грозные сэмы, и даже недобитые остатки некогда самой могущественной армии на Земле, продолжающие каждый день давать сражения и почти все из них проигрывать.
Но радио продолжало вещать к нам то голосом берлинских станций, то эхом бельгийских. Из них нам было известно, что уже две недели, как колонны, растянувшиеся на километры, бегут с востока на запад, спасаясь от безумных русских орд, не останавливающихся ни перед каким сопротивлением. Тем временем, каждый день всё новые и новые батальоны сдаются на милость сэмов на западном фронте.
В городах не осталось солдат – они тоже разбежались, кто куда. У кого есть голова на плечах – пытаются залечь на дно; у кого её нет – сдаться в плен. Кто плачет, а кто и смеётся над гибелью нашей страны. Миллионы людей не знают, что будет с ними дальше; и что ждёт нашу родину, уже много веков как забывшую, что это за чувство, когда земля уходит из-под ног. Только я один – уже очень долго не смеюсь и не плачу.
Отечество – мертво; оно погибло ещё два года назад – тогда и стоило закончить эту войну, превратившуюся в откровенную бойню и для нас, и для врага. Тотальная война – безумие такое же, как и бросаться в бой без надежды победить. Но если отечество может погибнуть, то родина – никогда; эта истина была известна многим древним народом, в своё время испытавшим те же чувства, что и мы сейчас. Родина останется с теми, кто выживет. И только чувство юмора на грани здравого смысла не даёт многим из нас окончательно сойти с ума.
Как бы долго я не просидел в своём кресле, раз за разом проигрывая эту пластинку у себя в уме – мне всё равно придётся встать.
И выйти наружу – в этот чудесный мир, где солнце всё равно светит нам, хоть и сквозь облака дыма и пыли.
Навстречу мне идёт рядовой. Его рука тянется вверх, будто силится пронзить небо, стоит ему только завидеть меня. Этот жест узнает каждый в любой точке нашего безумного шара. Он подходит почти вплотную: молодой, выбритый, одет как с иголочки – ну чем не герой славного отечества. Вот только лицо у него больно напуганное – самому жутко становится.
Он бормочет что-то, спрашивает, видимо; и не кого-то, а меня. Хоть речь его звучит совсем неразборчиво, ненужно быть провидцем, чтобы догадаться, о чём он может спросить меня в подобной неформальной обстановке. Какие у нас планы? Что мы собираемся делать? Придут ли сюда сэмы или не они, а русские; и как мы будем защищаться и будем ли мы вообще?! А я что – Господь Бог, чтобы знать ответы на эти вопросы?! Поэтому ничего ему не отвечаю, а лишь загадочно отвожу взгляд и иду себе дальше, дескать, не твоё дело – как прикажем, так и будет. Но приказывать нечего – и это хорошо; потому что в случае приближения батальонов врага, я не знал бы, что с этим делать.
Ситуация, в которой мы оказались, уже даже не действовала мне на нервы; я просто хотел, чтобы всё это как можно скорее кончилось.
Я смотрел на вещи и людей, мимо которых проходил, с каменным взглядом человека, прочитавшего все книги и выучившего все языки – в том числе и язык тотального истребления, в котором нет слов, обозначающих «любовь», «веру» и «надежду». Был бы среди моих подчинённых хоть один человек с головой на плечах, а не с держалкой для ушей – сразу понял бы всё с первого взгляда, но последние соображающие люди давно погибли, кто на фронте, кто в лагерях. И кругом не осталось даже солдат – одни желторотые новобранцы из фольксштурма – мясо для пушек, не более того. А командуют ими, в основном, люди ещё более низкого качества. Забавно слушать, как они браво отзываются об отечестве и говорят о реванше, когда столица в осаде врага, а армия разбита на своей же собственной земле. По ним видно, что они будут бороться до последнего и не отступят. Умели бы ещё эти люди читать мысли – давно разжаловали бы меня и расстреляли. А пока смиренно исполняют команды и ждут приказа ринуться в свой первый бой. Одного выстрела, одной картины сражения хватит, чтобы всех их обратить в бегство.
Я шел к единственному в городке пивному дворику, где меня уже давно дожидалась компания, которую я заслужил. Когда я зашел внутрь, никто даже не повернул голову в мою сторону – все были заняты своими разговорами с более интересными людьми. Поэтому я мог спокойно идти между столов, занятых людьми в коричневых униформах и бросать в сторону то одного, то другого взгляды человека, которому давно стало всё равно: будет ли он жить или нет; будут ли жить те, кто его окружают или нет.
Я добрался до барной стойки и окликнул своего единственного друга в этом городе:
– Как всегда, Ганс, – сказал я бармену вместо приветствия.
В ответ он многозначительно кивнул и принялся за свою работу. Когда литровый бокал пива стоял передо мной, я взял его и после первого же глотка он опустел на две трети. Ганс, хорошо зная меня, принялся за новый бокал, готовясь к тому, что я попрошу повторить.
– Спасибо, Ганс.
Он снова ответил лишь неоднозначным молчанием человека, как бы говоря: «Мне лучше молчать». Больше и говорить здесь не о чём. С ним я знаком уже почти год и как никто другой знаю: у него есть и право, и повод молчать.
В этот момент, на другой стороне зала, в дверях показывается Рудольф. Он вошел внутрь, напоминая всем о себе громким приветствием, восхваляющим нашего славного вождя. Всем присутствующим пришлось повторить эти слова за ним. Ганс опустил глаза и не сказал ничего, лишь косо поглядывая в сторону посетителя. И ещё один паренёк лет пятнадцати, даже не из фольксштурма, а из юнгеров – ничего не ответил. Глаза бывшего начальника полиции города Варшава, теперь оказавшегося здесь, упали на мальчика.
– Встать, – сказал Рудольф, обращаясь к нему.
Теперь, он уже не мог игнорировать присутствие старшего по званию.
– Так точно, господин офицер.
Рудольф продолжал осматривать его с головы до ног.