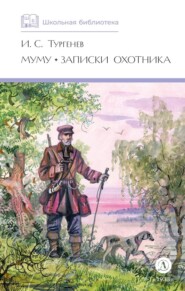По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вешние воды. Накануне (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал – не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась – это он знал и прежде… а то, что он едва ли… не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его… Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его… Что же из этого? Как что? Такая красавица…
Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк – и тотчас их вымарывал… Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих… Потом он брал брошенную ему розу – и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз…
«И вдруг его убьют или изувечат?»
Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.
Кто-то потрепал его по плечу… Он открыл глаза и увидел Панталеоне.
– Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! – воскликнул старик.
– Да который час? – спросил Санин.
– Семь часов без четверти; до Ганау – два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!
Санин начал умываться.
– А пистолеты где?
– Пистолеты привезет тот феррофлукто тедеско. И доктора он же привезет.
Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, – с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.
– Однако что это мы делаем, боже мой, santissima Madonna![32 - Пресвятая Мадонна! (ит.)] – воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. – Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?
Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tirе – il faut le boire»[33 - Вино откупорено – надо его пить (фр.).] (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).
– Да, да, – отвечал старик, – эту чашу мы разопьем с вами, – а все же я безумец! Я – безумец! Все было так тихо, хорошо… и вдруг: та-тата, тра-та-та!
– Словно tutti[34 - Все (ит.).] в оркестре, – заметил Санин с натянутой улыбкой. – Но виноваты не вы.
– Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это… необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo![35 - Вот черт! Вот черт! (ит.)] – повторил Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.
А карета все катилась да катилась.
Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу – сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся… Боже мой! Эмиль!
– Да разве он знает что-нибудь? – обратился он к Панталеоне.
– Я же вам говорю, что я безумец, – отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, – этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя – и я ему сегодня утром, наконец, все открыл!
«Вот тебе и segredezza!» – подумал Санин. Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.
– Что вы здесь делаете? – строго спросил его Санин, – зачем вы не дома?
– Позвольте… позвольте мне ехать с вами, – пролепетал Эмиль трепетным голосом – и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. – Я вам не помешаю – только возьмите меня!
– Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, – промолвил Санин, – вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!
– Вашего возвращения, – простонал Эмиль, – а голос его зазвенел и оборвался, – но если вас…
– Эмиль! – перебил его Санин и указал глазами на кучера, – опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!
Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам – и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.
– Тоже благородное сердце, – пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него… Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновеньем все более изумлялся: неужели это он взаправду сделался секундантом, и лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.
Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку, нашел настоящее слово.
– Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где – il antico valor?
Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.
– Il antico valor? – провозгласил он басом. – Non ? ancora spento (он еще не весь утрачен) – il antico valor!!
Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа – и приехал в Ганау – молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее… и бессильнее слова!
XXII
Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.
Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала… все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» – мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне – тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съеженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.
Послышалось, наконец, рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! – и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.
Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом – военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою – на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев – по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Донгоф вертел в руке – вероятно, для «шику» – небольшой хлыстик.
– Панталеоне! – шепнул Санин старику, – если… если меня убьют— все может случиться, – достаньте из моего бокового кармана бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?
Старик уныло взглянул на него – и качнул утвердительно головою… Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.
Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел – и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать…»
И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.
Настало решительное мгновенье…
Каждый взял свой пистолет…
Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (unparteiischer Zeuge) – но так как у них такового не имеется – то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на фон Рихтера – тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A la-la-la… Che bestialitа! Deux zeun’ ommes comme ?a quе si battono – perche? Che diavolo? Andate a casa!»[36 - А лалала… Что за зверство! Два молодых человека дерутся – зачем? Что за дьявол! Идите домой! (ит. и фр.)].
– Я не согласен на примирение, – поспешно проговорил Санин.
– И я тоже не согласен, – повторил за ним его противник.
– Ну так кричите: раз, два, три! – обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.
Тот немедленно опять нырнул в куст – и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во все горло:
Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк – и тотчас их вымарывал… Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих… Потом он брал брошенную ему розу – и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз…
«И вдруг его убьют или изувечат?»
Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.
Кто-то потрепал его по плечу… Он открыл глаза и увидел Панталеоне.
– Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! – воскликнул старик.
– Да который час? – спросил Санин.
– Семь часов без четверти; до Ганау – два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!
Санин начал умываться.
– А пистолеты где?
– Пистолеты привезет тот феррофлукто тедеско. И доктора он же привезет.
Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, – с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.
– Однако что это мы делаем, боже мой, santissima Madonna![32 - Пресвятая Мадонна! (ит.)] – воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. – Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?
Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tirе – il faut le boire»[33 - Вино откупорено – надо его пить (фр.).] (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).
– Да, да, – отвечал старик, – эту чашу мы разопьем с вами, – а все же я безумец! Я – безумец! Все было так тихо, хорошо… и вдруг: та-тата, тра-та-та!
– Словно tutti[34 - Все (ит.).] в оркестре, – заметил Санин с натянутой улыбкой. – Но виноваты не вы.
– Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это… необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo![35 - Вот черт! Вот черт! (ит.)] – повторил Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.
А карета все катилась да катилась.
Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу – сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся… Боже мой! Эмиль!
– Да разве он знает что-нибудь? – обратился он к Панталеоне.
– Я же вам говорю, что я безумец, – отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, – этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя – и я ему сегодня утром, наконец, все открыл!
«Вот тебе и segredezza!» – подумал Санин. Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.
– Что вы здесь делаете? – строго спросил его Санин, – зачем вы не дома?
– Позвольте… позвольте мне ехать с вами, – пролепетал Эмиль трепетным голосом – и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. – Я вам не помешаю – только возьмите меня!
– Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, – промолвил Санин, – вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!
– Вашего возвращения, – простонал Эмиль, – а голос его зазвенел и оборвался, – но если вас…
– Эмиль! – перебил его Санин и указал глазами на кучера, – опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!
Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам – и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.
– Тоже благородное сердце, – пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него… Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновеньем все более изумлялся: неужели это он взаправду сделался секундантом, и лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.
Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку, нашел настоящее слово.
– Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где – il antico valor?
Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.
– Il antico valor? – провозгласил он басом. – Non ? ancora spento (он еще не весь утрачен) – il antico valor!!
Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа – и приехал в Ганау – молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее… и бессильнее слова!
XXII
Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.
Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала… все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» – мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне – тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съеженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.
Послышалось, наконец, рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! – и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.
Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом – военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою – на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев – по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Донгоф вертел в руке – вероятно, для «шику» – небольшой хлыстик.
– Панталеоне! – шепнул Санин старику, – если… если меня убьют— все может случиться, – достаньте из моего бокового кармана бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?
Старик уныло взглянул на него – и качнул утвердительно головою… Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.
Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел – и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать…»
И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.
Настало решительное мгновенье…
Каждый взял свой пистолет…
Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (unparteiischer Zeuge) – но так как у них такового не имеется – то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на фон Рихтера – тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A la-la-la… Che bestialitа! Deux zeun’ ommes comme ?a quе si battono – perche? Che diavolo? Andate a casa!»[36 - А лалала… Что за зверство! Два молодых человека дерутся – зачем? Что за дьявол! Идите домой! (ит. и фр.)].
– Я не согласен на примирение, – поспешно проговорил Санин.
– И я тоже не согласен, – повторил за ним его противник.
– Ну так кричите: раз, два, три! – обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.
Тот немедленно опять нырнул в куст – и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во все горло: