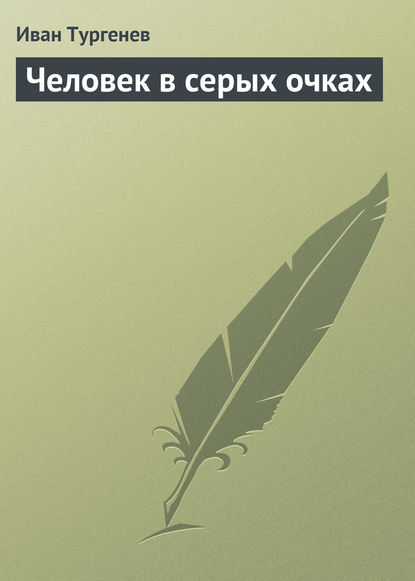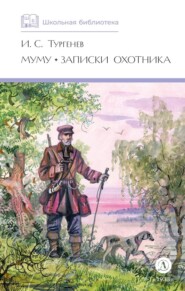По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человек в серых очках
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно… конечно… вы правы. – Мусье Франсуа уныло посматривал на меня. – Вы выучились русскому языку, когда были гувернером у генерала? – спросил я довольно некстати; но мне хотелось поскорее загладить неприятное впечатление, которого не могло не произвести несколько опрометчивое суждение А. И. Г<ерцена>.
Лицо мусье Франсуа оживилось: он даже осклабился, похлопал меня по колену, как бы желая дать мне почувствовать, что понимает и ценит мое намерение, надел очки, поднял уроненную им палку.
– Нет, – промолвил он, – я выучился раньше. Я тогда выучился вашему языку, когда попал из Америки в Сибирь, из Техаса чрез Калифорнию… Я и там был – в вашей Сибири! И какие со мной чудеса совершались!
– Например?
– Я о Сибири говорить не стану… по многим причинам. Боюсь огорчить вас или оскорбить. Памалшим лутчи, – прибавил он ломаным русским языком. – Хе, хе. Но вот послушайте, что со мной однажды случилось в Техасе.
И мусье Франсуа принялся, с не свойственной ему до тех пор обстоятельностию, рассказывать, как он, странствуя по Техасу зимой, забрел раз, поздно вечером, в блокгауз к одному поселенцу из мексиканцев; как, проснувшись ночью, он увидал своего хозяина сидящим на его постели с обнаженным ножом в руке – «con una navaja»; как этот человек, огромного роста, бычачьей силы и пьяный, объявил ему, что намерен его зарезать по той причине, что он, Франсуа, лицом напоминает ему одного из злейших его врагов. «Докажи мне, – говорил мексиканец, – что мне не следует потешить себя и не выпустить из тебя всю кровь, как из борова, – так как я могу совершить все это вполне безнаказанно, и никто на свете не узнает, что с тобой сталось; да если кто бы и узнал, все-таки к ответу меня не потянут, ибо никому на свете нет до тебя никакого дела. Ну, доказывай!.. времени у нас, слава Богу, довольно». И я, – продолжал мусье Франсуа, – всю ночь до утра, лежа под его ножом, принужден был доказывать этому пьяному зверю – то приводя тексты из Священного писания (на него, как на католика, это могло действовать), то придерживаясь общих рассуждений, что удовольствие, которое доставит ему моя смерть, не настолько будет велико, чтобы стоило из-за него марать руки… «Надо будет мой труп зарыть, хоть ради опрятности; все это хлопоты…» Я принужден был даже сказки сказывать, даже песни петь… «Пой со мною! – рычал он. – La mucha-cha-a-a!..» И я ему подтягивал… а лезвие ножа, de cette diablesse de navaja[7 - этой дьявольской навахи (фр.)], висело на вершок от моего горла. Кончилось тем, что мексиканец заснул рядом со мною, положив свою косматую гадкую голову ко мне на грудь.
Всю эту историю мусье Франсуа рассказал мне тихим голосом, не спеша, как бы засыпая, и вдруг вытаращил глаза и умолк.
– Ну и что же вы с ним сделали? – спросил я, – с мексиканцем-то?
– Да я… лишил его возможности вперед так глупо шутить.
– То есть это как же?
– Взял у него из рук нож… да, покончивши с этим делом, отправился далее. Случались со мною и другие приключения… А все больше от них, от проклятых, – прибавил он, указывая пальцем на проходившую женщину, скромно одетую, средних лет.
– От кого?
– От этих… юбок, – пояснил он свою мысль. – О, эти женщины! женщины! Они-то вам ломают ваши крылья, они отравляют лучшую вашу кровь. А впрочем, прощайте. Я, вероятно, уже надоел вам – а я никому надоедать не намерен. Особенно тому, в ком я не нуждаюсь.
Он гордо выпрямил свой стан, встал – и удалился, едва кивнув мне головою и развязно помахивая палкой.
Я, признаться, всей этой мексиканской истории не поверил; она даже повредила мусье Франсуа в моих глазах. И опять мне пришло на мысль, что он меня дурачит. Но с какой целью? Чудак! чудак! – повторял я. – За шпиона я его, однако, признать все-таки не мог, несмотря на уверения А. И. Г<ерцена>. Меня удивляло то, что каким это образом ни один из многочисленных прохожих в Пале-Рояле не заговорил с ним, не узнавал его? Правда, он некоторым из них подмигивал глазом… Или это мне тоже так показалось?
Я забыл сказать, что от мусье Франсуа никогда не пахло вином. Впрочем, ему, может быть, не на что было и купить вина. Но нет: он вообще производил впечатление трезвого человека.
Ни на другой день, ни в следующие дни он не явился на свидание – и понемногу я забыл о мусье Франсуа.
* * *
Незадолго до 24 февраля я уехал в Бельгию – и весть о государственном перевороте во Франции дошла до меня в Брюсселе. Помнится, в течение целого дня никто не получал ни писем, ни журналов из Парижа; жители толпились на улицах и на площадях; все замирало в тревожном ожидании. 26 февраля, в шесть часов утра, я еще лежал – хотя и не спал – на постели в нумере гостиницы, – как вдруг наружная дверь растворилась настежь и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!» Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты. По коридору мчался один из гарсонов гостиницы – и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый нумер свое поразительное восклицание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи – ив тот же день несся по железной дороге в Париж. На границе сняты были рельсы; спутники мои и я – мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ и к вечеру прибыли в Понтуаз… Рельсы около Парижа были также сняты. Здесь не место передавать все то, что я испытал, видел и слышал во время этого путешествия. Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» республики, Антоний Туре; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою… 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим, встречным… Были раненые – но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, все, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!» Помню также, что в одном вагоне со мною находилась известная г-жа Гордон; она вдруг начала проповедовать о необходимости прибегнуть к «принцу», о том, что «принц» один может все спасти… Сначала никто ее не понял; когда же она произнесла имя Луи-Наполеона – все отвернулись от нее, как от безумной. Однако слово, сказанное мусье Франсуа насчет Бонапартов, на мгновенье мелькнуло у меня в голове… первое пророчество его сбылось лее.
Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях при въезде в Париж, при виде всюду пестревших трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших камни баррикад, и т. п. Весь первый день моего пребывания в Париже прошел в каком-то чаду. На следующий день я, по обыкновению, отправился в Пале-Рояль, спросил у «гражданина» гарсона чашку кофе – и хотя не встретил там мусье Франсуа, однако мог убедиться, что его предчувствие насчет крови, долженствовавшей обагрить камни на улицах, окружающих Пале-Рояль, оправдалось: известно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февральские дни, произошла на площади, отделяющей это здание от Лувра. И в последующие дни я не наткнулся на мусье Франсуа. В первый раз увидел я его 17 марта – в самый тот день, когда громадная толпа работников ходила к ратуше протестовать перед временным правительством против известной манифестации так называемых «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии). Размахивая руками и широко шагая, шел он посреди толпы – и не то пел, не то кричал; он подпоясался красным шарфом и пришпилил красную кокарду к шляпе. Глаза наши встретились; но он не подал вида, что узнает меня, хотя нарочно обратился ко мне всем лицом: «Смотри, мол; да; это я!» – и закричал пуще прежнего, преувеличенно раскрывая темный рот. В другой раз увидел я его в театре. Рашель пела своим гробовым голосом марсельезу; он сидел в партере, там, где в обыкновенное время помещаются клакёры. В театре он не кричал и не хлопал; но, скрестив руки на груди, с сумрачным вниманием глядел на певицу, когда она, кутаясь в складках схваченного ею знамени, призывала граждан – «к оружию», «к пролитию нечистой крови!». Не могу наверное сказать, видел ли я его 15 мая в массе народа, шедшего мимо церкви Маделены на штурм палаты депутатов; но нечто похожее на его фигуру мелькнуло в передних рядах, и едва ли не его голос – его особенный, глухой и гулкий голос – послышался мне среди криков: «Да здравствует Польша!»
Зато в начале июня, а именно 4-го числа, мусье Франсуа внезапно предстал предо мною в той же кофейной Пале-Рояль. Он поклонился мне, даже руку мне подал (чего прежде не делал) – но не подсел к моему столику, как бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и, кроме того, его пожирало – так, по крайней мере, мне показалось – беспокойное, нервическое нетерпенье. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверх, то вниз; воспаленные глаза едва виднелись под очками, которые он беспрестанно поправлял и надвигал на нос всей пятерней. Я в этот раз мог убедиться в. том, что уже подозревал прежде: стекла в его очках были простые стекла, и он, собственно, вовсе не нуждался в них; оттого-то он так часто взглядывал через их края. Очки для него были вроде маски. Тревога, та особенная тревога бесприютного и голодающего бродяги, сказывалась во всем его существе. Почти нищенская наружность этого загадочного человека возбуждала мое недоуменье. Если он точно – агент, то отчего же он так беден? Если же он не агент – то что же он такое? Как понять его поведение?
Я заговорил было с ним о его предсказаниях…
– Да… да… – пробормотал он с лихорадочной торопливостью… – Это все дело прошлое – de l'histoire ancienne. Но вы разве не собираетесь в вашу Россию? Вы еще останетесь здесь?
– А почему же мне не оставаться?
– Гм. Это ваша забота. Но ведь мы скоро воевать с вами будем?
– С нами?
– Да, с вами, с русскими. Нам скоро славы будет нужно, славы! Война с Россией неизбежна!
– С Россией? А почему же не с Германией?
– Прежде с Россией. Впрочем, это все впереди. Вы молоды… доживете. – А республика… (он махнул рукою). Кончено! C'est fichu!
– Национальные мастерские! Национальные мастерские! – воскликнул он с внезапным одушевлением. – Были вы там? видели их? Видели, как они в тачках землю с одного места на другое перевозят?; Вот откуда все пойдет. Что будет крови! крови! Целое море «крови! Какое положение! Все предвидеть и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем! Все обнимать (он широко расставил руки с болтавшимися, изорванными рукавами… кольцо на указательном пальце, однако, уцелело…) – и ничего не схватывать! (он стиснул кулаки) – ни даже куска хлеба! Завтрашние выборы тоже довольно важны, – поспешно подхватил он, как бы не давая самому себе останавливаться на высказанном чувстве. Мусье Франсуа назвал мне поименно депутатов, которых, по его словам, непременно выберут парижане; сказал мне число голосов – круглыми цифрами, – которые каждый из них получит. Между именами, названными мусье Франсуа, находилось имя Коссидиера, которому он назначал первое место.
– Несмотря на пятнадцатое мая? – спросил я.
– Вы, может быть, полагаете, что я это говорю, потому что он был префектом полиции? – возразил мусье Франсуа с горькой усмешкой, но тотчас же встряхнулся и опять заговорил о выборах. Луи-Наполеон тоже попадал в список. – Он будет из последних в хвосте (a la queue), – заметил мусье Франсуа, – но и этого довольно. Взбираясь по лестнице, надо сперва перешагнуть последние ступеньки, чтобы попасть на первую.
Я в тот же вечер передал все эти имена и цифры в доме А. И. Г. <ерцена>; и очень хорошо помню его изумление, когда на другой день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись, от слова до слова. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивал меня не раз А.И.Г<ерцен>. Я назвал источник, откуда я почерпал свои сведения. «А! Гибрид этот!» – воскликнул Г<ерцен>.
Но возвращаюсь к нашей беседе в кофейной. Около того времени в числе имен, вращавшихся в устах молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назвал его. Он, по мнению мусье Франсуа, тоже стоял в списке избранных, правда последним, что, впрочем, тоже оправдалось. Но оказалось, что мусье Франсуа не придавал ему большого значения так же, как и Ламартину и Ледрю-Ролленю. Обо всех этих лицах он отзывался с пренебрежением – с оттенком сожаления о Ламартине, с оттенком злобы о Прудоне, этом «софисте в деревянных башмаках» (се sophiste en sabots). А Ледрю-Ролленя он прямо назвал: «Се gros beta de Ledru»[8 - «Этот толстый идиот Ледрю» (фр.)] – и все возвращался к национальным мастерским. Вся наша беседа продолжалась, впрочем, недолго, не более четверти часа. Мусье Франсуа так и не присел и все оглядывался, словно поджидая кого-то. Я, между прочим, вспомнив его красную кокарду, сказал:
– Так как вы все-таки мне кажетесь республиканцем…
– Какой я республиканец! – перебил он меня, – с чего вы это взяли? Это хорошо для овощных торговцев (pour les epiciers). Они еще верят в принципы 89 года, всеобщее братство, прогресс – а я…
Но тут мусье Франсуа внезапно затих и глянул в сторону. Я оглянулся тоже. Какой-то старик в блузе, с длинной белой бородой, делал ему знаки рукою. Он ответил ему тем же и, не прибавив слова, подбежал к нему, и оба исчезли.
После встречи в кофейной я видел мусье Франсуа всего три раза. Раз издали, в Люксембургском саду. Он стоял рядом с бедно одетой молодой девушкой; она о чем-то слезно умоляла его, стискивала руки и подносила их к губам… А он угрюмо отнекивался, нетерпеливо топал ногой и, внезапно оттолкнув ее локтем, надвинул шляпу на лоб и пошел прочь. Она побежала в другую сторону как потерянная. Вторая наша встреча была более знаменательна; она произошла 13 июня, в самый тот день, когда на площади Согласия в первый раз появилось скопище бонапартистов, на которое Ламартин указал с трибуны палаты и которое вскоре разогнали линейные войска. В одном из углов, образуемых стеной Тюльерийского сада, я увидал человека в пестром костюме шарлатана, стоявшего на ручной, двухколесной тележке и раздававшего брошюры. Я взял одну из них: в ней заключалась биография, крайне хвалебная, Луи-Наполеона. Этого человека, бретонца, с громаднейшей шапкой длинных и взбитых кверху волос, я видывал и прежде на загородных бульварах и площадях: он продавал зубной эликсир, мазь против ревматизма – разные всеисцеляющие средства и т. п. Пока я перелистывал взятую мною брошюру, кто-то слегка тронул меня за плечо. Мусье Франсуа! Он улыбался во весь свой беззубый рот и иронически посматривал на меня через края очков.
– Начинается! Вот когда оно начинается! – проговорил он, странно переминаясь на месте и потирая руки. – Вот когда! Вот он – апостол, провозвестник! Нравится он вам?
– Этот волосатый шарлатан? – воскликнул я. – Этот шут? Да вы смеетесь надо мною!
– Да, да, шарлатан! – возразил мусье Франсуа. – Так оно и следует. Необычайные волосы, запястия на руках, трико с золотыми блестками… Это-то и нужно! Надо поражать воображение! Легенда, милостивый государь, легенда нужна! Чудодейство нужно! Реклама! Сценическая постановка! Сперва человек удивится… а потом уважает! Что я говорю – уважает? Верит… верит! А вы извольте помнить: настоящее дело теперь только начинается… И когда будет пройдено Чермное (Красное) море (la Mer rouge)…
Но тут с площади Согласия нахлынула толпа, беспорядочно бежавшая от солдатских штыков, и разрознила нас.
В последний раз я увидал – тоже издали – мусье Франсуа во время страшных июньских дней. Он был одет в мундир национального гвардейца из провинции, держал ружье наперевес – и я не берусь передать словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.
* * *
С тех пор я уже никогда не встречался с мусье Франсуа. В начале 1850 года мне пришлось побывать в русской церкви, на свадьбе одного знакомого – и вдруг, Бог ведает почему – словно что меня толкнуло, – стал думать о мусье Франсуа. Мне тут же пришло в голову, что так как другие его предсказания сбылись, то, пожалуй, и на этот раз он мог оказаться пророком – и его точно нет уже в живых. Впрочем, несколько лет спустя мне довелось с достоверностью убедиться в его смерти. А именно: в одном магазине, за прилавком, я заметил женщину, в которой я, после недолгого колебания, узнал девушку, так горько плакавшую в Люксембургском саду перед мусье Франсуа. Я решился напомнить ей об этой сцене. Сперва она выказала недоумение – но, как только поняла, в чем дело, тотчас пришла в страшное волнение, побледнела, покраснела и попросила меня не вдаваться в дальнейшие расспросы.
– По крайней мере, скажите мне, умер ли этот господин или нет?
Женщина пристально посмотрела на меня.
– Он умер смертью, которой заслуживал… он злой был человек. Впрочем, – прибавила она, – он был тоже очень… очень несчастлив. – Больше я ничего добиться от нее не мог, и кто, собственно, был мусье Франсуа – осталось для меня загадкой.
Есть такие морские птицы, которые появляются только во время бури. Англичане называют их stormy petrels[9 - буревестниками (англ.)]. Они носятся низко в тусклом воздухе, над самыми гребнями разъяренных волн, и исчезают, как только настанет ясная погода.
notes
Лицо мусье Франсуа оживилось: он даже осклабился, похлопал меня по колену, как бы желая дать мне почувствовать, что понимает и ценит мое намерение, надел очки, поднял уроненную им палку.
– Нет, – промолвил он, – я выучился раньше. Я тогда выучился вашему языку, когда попал из Америки в Сибирь, из Техаса чрез Калифорнию… Я и там был – в вашей Сибири! И какие со мной чудеса совершались!
– Например?
– Я о Сибири говорить не стану… по многим причинам. Боюсь огорчить вас или оскорбить. Памалшим лутчи, – прибавил он ломаным русским языком. – Хе, хе. Но вот послушайте, что со мной однажды случилось в Техасе.
И мусье Франсуа принялся, с не свойственной ему до тех пор обстоятельностию, рассказывать, как он, странствуя по Техасу зимой, забрел раз, поздно вечером, в блокгауз к одному поселенцу из мексиканцев; как, проснувшись ночью, он увидал своего хозяина сидящим на его постели с обнаженным ножом в руке – «con una navaja»; как этот человек, огромного роста, бычачьей силы и пьяный, объявил ему, что намерен его зарезать по той причине, что он, Франсуа, лицом напоминает ему одного из злейших его врагов. «Докажи мне, – говорил мексиканец, – что мне не следует потешить себя и не выпустить из тебя всю кровь, как из борова, – так как я могу совершить все это вполне безнаказанно, и никто на свете не узнает, что с тобой сталось; да если кто бы и узнал, все-таки к ответу меня не потянут, ибо никому на свете нет до тебя никакого дела. Ну, доказывай!.. времени у нас, слава Богу, довольно». И я, – продолжал мусье Франсуа, – всю ночь до утра, лежа под его ножом, принужден был доказывать этому пьяному зверю – то приводя тексты из Священного писания (на него, как на католика, это могло действовать), то придерживаясь общих рассуждений, что удовольствие, которое доставит ему моя смерть, не настолько будет велико, чтобы стоило из-за него марать руки… «Надо будет мой труп зарыть, хоть ради опрятности; все это хлопоты…» Я принужден был даже сказки сказывать, даже песни петь… «Пой со мною! – рычал он. – La mucha-cha-a-a!..» И я ему подтягивал… а лезвие ножа, de cette diablesse de navaja[7 - этой дьявольской навахи (фр.)], висело на вершок от моего горла. Кончилось тем, что мексиканец заснул рядом со мною, положив свою косматую гадкую голову ко мне на грудь.
Всю эту историю мусье Франсуа рассказал мне тихим голосом, не спеша, как бы засыпая, и вдруг вытаращил глаза и умолк.
– Ну и что же вы с ним сделали? – спросил я, – с мексиканцем-то?
– Да я… лишил его возможности вперед так глупо шутить.
– То есть это как же?
– Взял у него из рук нож… да, покончивши с этим делом, отправился далее. Случались со мною и другие приключения… А все больше от них, от проклятых, – прибавил он, указывая пальцем на проходившую женщину, скромно одетую, средних лет.
– От кого?
– От этих… юбок, – пояснил он свою мысль. – О, эти женщины! женщины! Они-то вам ломают ваши крылья, они отравляют лучшую вашу кровь. А впрочем, прощайте. Я, вероятно, уже надоел вам – а я никому надоедать не намерен. Особенно тому, в ком я не нуждаюсь.
Он гордо выпрямил свой стан, встал – и удалился, едва кивнув мне головою и развязно помахивая палкой.
Я, признаться, всей этой мексиканской истории не поверил; она даже повредила мусье Франсуа в моих глазах. И опять мне пришло на мысль, что он меня дурачит. Но с какой целью? Чудак! чудак! – повторял я. – За шпиона я его, однако, признать все-таки не мог, несмотря на уверения А. И. Г<ерцена>. Меня удивляло то, что каким это образом ни один из многочисленных прохожих в Пале-Рояле не заговорил с ним, не узнавал его? Правда, он некоторым из них подмигивал глазом… Или это мне тоже так показалось?
Я забыл сказать, что от мусье Франсуа никогда не пахло вином. Впрочем, ему, может быть, не на что было и купить вина. Но нет: он вообще производил впечатление трезвого человека.
Ни на другой день, ни в следующие дни он не явился на свидание – и понемногу я забыл о мусье Франсуа.
* * *
Незадолго до 24 февраля я уехал в Бельгию – и весть о государственном перевороте во Франции дошла до меня в Брюсселе. Помнится, в течение целого дня никто не получал ни писем, ни журналов из Парижа; жители толпились на улицах и на площадях; все замирало в тревожном ожидании. 26 февраля, в шесть часов утра, я еще лежал – хотя и не спал – на постели в нумере гостиницы, – как вдруг наружная дверь растворилась настежь и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!» Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты. По коридору мчался один из гарсонов гостиницы – и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый нумер свое поразительное восклицание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи – ив тот же день несся по железной дороге в Париж. На границе сняты были рельсы; спутники мои и я – мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ и к вечеру прибыли в Понтуаз… Рельсы около Парижа были также сняты. Здесь не место передавать все то, что я испытал, видел и слышал во время этого путешествия. Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» республики, Антоний Туре; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою… 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим, встречным… Были раненые – но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, все, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!» Помню также, что в одном вагоне со мною находилась известная г-жа Гордон; она вдруг начала проповедовать о необходимости прибегнуть к «принцу», о том, что «принц» один может все спасти… Сначала никто ее не понял; когда же она произнесла имя Луи-Наполеона – все отвернулись от нее, как от безумной. Однако слово, сказанное мусье Франсуа насчет Бонапартов, на мгновенье мелькнуло у меня в голове… первое пророчество его сбылось лее.
Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях при въезде в Париж, при виде всюду пестревших трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших камни баррикад, и т. п. Весь первый день моего пребывания в Париже прошел в каком-то чаду. На следующий день я, по обыкновению, отправился в Пале-Рояль, спросил у «гражданина» гарсона чашку кофе – и хотя не встретил там мусье Франсуа, однако мог убедиться, что его предчувствие насчет крови, долженствовавшей обагрить камни на улицах, окружающих Пале-Рояль, оправдалось: известно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февральские дни, произошла на площади, отделяющей это здание от Лувра. И в последующие дни я не наткнулся на мусье Франсуа. В первый раз увидел я его 17 марта – в самый тот день, когда громадная толпа работников ходила к ратуше протестовать перед временным правительством против известной манифестации так называемых «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии). Размахивая руками и широко шагая, шел он посреди толпы – и не то пел, не то кричал; он подпоясался красным шарфом и пришпилил красную кокарду к шляпе. Глаза наши встретились; но он не подал вида, что узнает меня, хотя нарочно обратился ко мне всем лицом: «Смотри, мол; да; это я!» – и закричал пуще прежнего, преувеличенно раскрывая темный рот. В другой раз увидел я его в театре. Рашель пела своим гробовым голосом марсельезу; он сидел в партере, там, где в обыкновенное время помещаются клакёры. В театре он не кричал и не хлопал; но, скрестив руки на груди, с сумрачным вниманием глядел на певицу, когда она, кутаясь в складках схваченного ею знамени, призывала граждан – «к оружию», «к пролитию нечистой крови!». Не могу наверное сказать, видел ли я его 15 мая в массе народа, шедшего мимо церкви Маделены на штурм палаты депутатов; но нечто похожее на его фигуру мелькнуло в передних рядах, и едва ли не его голос – его особенный, глухой и гулкий голос – послышался мне среди криков: «Да здравствует Польша!»
Зато в начале июня, а именно 4-го числа, мусье Франсуа внезапно предстал предо мною в той же кофейной Пале-Рояль. Он поклонился мне, даже руку мне подал (чего прежде не делал) – но не подсел к моему столику, как бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и, кроме того, его пожирало – так, по крайней мере, мне показалось – беспокойное, нервическое нетерпенье. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверх, то вниз; воспаленные глаза едва виднелись под очками, которые он беспрестанно поправлял и надвигал на нос всей пятерней. Я в этот раз мог убедиться в. том, что уже подозревал прежде: стекла в его очках были простые стекла, и он, собственно, вовсе не нуждался в них; оттого-то он так часто взглядывал через их края. Очки для него были вроде маски. Тревога, та особенная тревога бесприютного и голодающего бродяги, сказывалась во всем его существе. Почти нищенская наружность этого загадочного человека возбуждала мое недоуменье. Если он точно – агент, то отчего же он так беден? Если же он не агент – то что же он такое? Как понять его поведение?
Я заговорил было с ним о его предсказаниях…
– Да… да… – пробормотал он с лихорадочной торопливостью… – Это все дело прошлое – de l'histoire ancienne. Но вы разве не собираетесь в вашу Россию? Вы еще останетесь здесь?
– А почему же мне не оставаться?
– Гм. Это ваша забота. Но ведь мы скоро воевать с вами будем?
– С нами?
– Да, с вами, с русскими. Нам скоро славы будет нужно, славы! Война с Россией неизбежна!
– С Россией? А почему же не с Германией?
– Прежде с Россией. Впрочем, это все впереди. Вы молоды… доживете. – А республика… (он махнул рукою). Кончено! C'est fichu!
– Национальные мастерские! Национальные мастерские! – воскликнул он с внезапным одушевлением. – Были вы там? видели их? Видели, как они в тачках землю с одного места на другое перевозят?; Вот откуда все пойдет. Что будет крови! крови! Целое море «крови! Какое положение! Все предвидеть и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем! Все обнимать (он широко расставил руки с болтавшимися, изорванными рукавами… кольцо на указательном пальце, однако, уцелело…) – и ничего не схватывать! (он стиснул кулаки) – ни даже куска хлеба! Завтрашние выборы тоже довольно важны, – поспешно подхватил он, как бы не давая самому себе останавливаться на высказанном чувстве. Мусье Франсуа назвал мне поименно депутатов, которых, по его словам, непременно выберут парижане; сказал мне число голосов – круглыми цифрами, – которые каждый из них получит. Между именами, названными мусье Франсуа, находилось имя Коссидиера, которому он назначал первое место.
– Несмотря на пятнадцатое мая? – спросил я.
– Вы, может быть, полагаете, что я это говорю, потому что он был префектом полиции? – возразил мусье Франсуа с горькой усмешкой, но тотчас же встряхнулся и опять заговорил о выборах. Луи-Наполеон тоже попадал в список. – Он будет из последних в хвосте (a la queue), – заметил мусье Франсуа, – но и этого довольно. Взбираясь по лестнице, надо сперва перешагнуть последние ступеньки, чтобы попасть на первую.
Я в тот же вечер передал все эти имена и цифры в доме А. И. Г. <ерцена>; и очень хорошо помню его изумление, когда на другой день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись, от слова до слова. «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивал меня не раз А.И.Г<ерцен>. Я назвал источник, откуда я почерпал свои сведения. «А! Гибрид этот!» – воскликнул Г<ерцен>.
Но возвращаюсь к нашей беседе в кофейной. Около того времени в числе имен, вращавшихся в устах молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назвал его. Он, по мнению мусье Франсуа, тоже стоял в списке избранных, правда последним, что, впрочем, тоже оправдалось. Но оказалось, что мусье Франсуа не придавал ему большого значения так же, как и Ламартину и Ледрю-Ролленю. Обо всех этих лицах он отзывался с пренебрежением – с оттенком сожаления о Ламартине, с оттенком злобы о Прудоне, этом «софисте в деревянных башмаках» (се sophiste en sabots). А Ледрю-Ролленя он прямо назвал: «Се gros beta de Ledru»[8 - «Этот толстый идиот Ледрю» (фр.)] – и все возвращался к национальным мастерским. Вся наша беседа продолжалась, впрочем, недолго, не более четверти часа. Мусье Франсуа так и не присел и все оглядывался, словно поджидая кого-то. Я, между прочим, вспомнив его красную кокарду, сказал:
– Так как вы все-таки мне кажетесь республиканцем…
– Какой я республиканец! – перебил он меня, – с чего вы это взяли? Это хорошо для овощных торговцев (pour les epiciers). Они еще верят в принципы 89 года, всеобщее братство, прогресс – а я…
Но тут мусье Франсуа внезапно затих и глянул в сторону. Я оглянулся тоже. Какой-то старик в блузе, с длинной белой бородой, делал ему знаки рукою. Он ответил ему тем же и, не прибавив слова, подбежал к нему, и оба исчезли.
После встречи в кофейной я видел мусье Франсуа всего три раза. Раз издали, в Люксембургском саду. Он стоял рядом с бедно одетой молодой девушкой; она о чем-то слезно умоляла его, стискивала руки и подносила их к губам… А он угрюмо отнекивался, нетерпеливо топал ногой и, внезапно оттолкнув ее локтем, надвинул шляпу на лоб и пошел прочь. Она побежала в другую сторону как потерянная. Вторая наша встреча была более знаменательна; она произошла 13 июня, в самый тот день, когда на площади Согласия в первый раз появилось скопище бонапартистов, на которое Ламартин указал с трибуны палаты и которое вскоре разогнали линейные войска. В одном из углов, образуемых стеной Тюльерийского сада, я увидал человека в пестром костюме шарлатана, стоявшего на ручной, двухколесной тележке и раздававшего брошюры. Я взял одну из них: в ней заключалась биография, крайне хвалебная, Луи-Наполеона. Этого человека, бретонца, с громаднейшей шапкой длинных и взбитых кверху волос, я видывал и прежде на загородных бульварах и площадях: он продавал зубной эликсир, мазь против ревматизма – разные всеисцеляющие средства и т. п. Пока я перелистывал взятую мною брошюру, кто-то слегка тронул меня за плечо. Мусье Франсуа! Он улыбался во весь свой беззубый рот и иронически посматривал на меня через края очков.
– Начинается! Вот когда оно начинается! – проговорил он, странно переминаясь на месте и потирая руки. – Вот когда! Вот он – апостол, провозвестник! Нравится он вам?
– Этот волосатый шарлатан? – воскликнул я. – Этот шут? Да вы смеетесь надо мною!
– Да, да, шарлатан! – возразил мусье Франсуа. – Так оно и следует. Необычайные волосы, запястия на руках, трико с золотыми блестками… Это-то и нужно! Надо поражать воображение! Легенда, милостивый государь, легенда нужна! Чудодейство нужно! Реклама! Сценическая постановка! Сперва человек удивится… а потом уважает! Что я говорю – уважает? Верит… верит! А вы извольте помнить: настоящее дело теперь только начинается… И когда будет пройдено Чермное (Красное) море (la Mer rouge)…
Но тут с площади Согласия нахлынула толпа, беспорядочно бежавшая от солдатских штыков, и разрознила нас.
В последний раз я увидал – тоже издали – мусье Франсуа во время страшных июньских дней. Он был одет в мундир национального гвардейца из провинции, держал ружье наперевес – и я не берусь передать словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.
* * *
С тех пор я уже никогда не встречался с мусье Франсуа. В начале 1850 года мне пришлось побывать в русской церкви, на свадьбе одного знакомого – и вдруг, Бог ведает почему – словно что меня толкнуло, – стал думать о мусье Франсуа. Мне тут же пришло в голову, что так как другие его предсказания сбылись, то, пожалуй, и на этот раз он мог оказаться пророком – и его точно нет уже в живых. Впрочем, несколько лет спустя мне довелось с достоверностью убедиться в его смерти. А именно: в одном магазине, за прилавком, я заметил женщину, в которой я, после недолгого колебания, узнал девушку, так горько плакавшую в Люксембургском саду перед мусье Франсуа. Я решился напомнить ей об этой сцене. Сперва она выказала недоумение – но, как только поняла, в чем дело, тотчас пришла в страшное волнение, побледнела, покраснела и попросила меня не вдаваться в дальнейшие расспросы.
– По крайней мере, скажите мне, умер ли этот господин или нет?
Женщина пристально посмотрела на меня.
– Он умер смертью, которой заслуживал… он злой был человек. Впрочем, – прибавила она, – он был тоже очень… очень несчастлив. – Больше я ничего добиться от нее не мог, и кто, собственно, был мусье Франсуа – осталось для меня загадкой.
Есть такие морские птицы, которые появляются только во время бури. Англичане называют их stormy petrels[9 - буревестниками (англ.)]. Они носятся низко в тусклом воздухе, над самыми гребнями разъяренных волн, и исчезают, как только настанет ясная погода.
notes