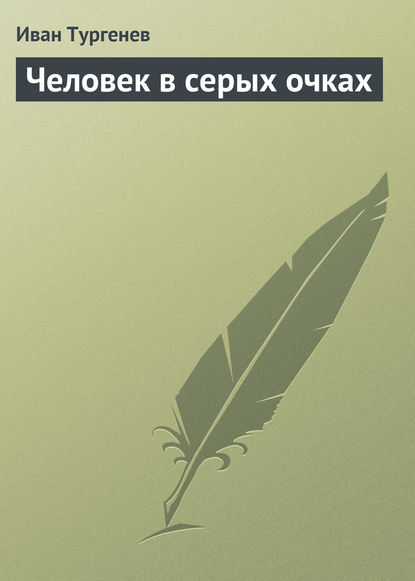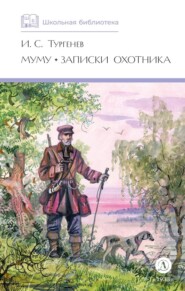По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человек в серых очках
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы меня не так поняли. Я разумею те произведения, в которых авторы рассказывают читателям о самих себе – напоказ себя выставляют – то есть на смех. Ничего иного люди настоящим образом знать не могут… да и то! Вот почему самый великий писатель – Монтень. Такого нет другого.
– Он слывет за великого эгоиста, – заметил я.
– Да; и в этом его сила. У него у одного достало смелости быть эгоистом – и посмешищем – до конца. Оттого он меня и забавляет. Прочту страницу, другую… посмеюсь над ним, над самим собою… и баста!
– Ну – а поэты?
– Поэты занимаются музыкою слов, словесной музыкой. А вы знаете мое мнение о музыке.
– Что же должно читать? И что должен, например, читать народ? Или вы полагаете, что народу читать не следует?
(Я заметил на одном из пальцев незнакомца кольцо с гербом; несмотря на его мизерный и обтерханный вид, мне сдавалось, что он должен придерживаться аристократических мнений; а быть может, и сам он по происхождению принадлежал аристократии.)
– Напротив, – отвечал он. – Народ должен читать; но что он читает – это совершенно безразлично. Говорят, ваши мужики все одну и ту же книжку читают. («Францыл Венецианец», – мелькнуло у меня в голове.) Дочитают один экземпляр – другой такой же купят. И прекрасно делают. Это придает им важности в собственных глазах и мешает им размышлять. А кто в церковь ходит – тому и вовсе читать не нужно.
– Вы придаете такое значение религии? Незнакомец покосился на меня через края очков.
– Я в Бога плохо верю, милостивый государь; но религия – дело важное. Служить ей… быть попом едва ли не лучшее звание. Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелевать с смирением – и повиноваться с гордостью, вот и весь секрет. Власть… власть… обладать властью – другого счастья на земле нет!
Я уже начал привыкать к неожиданным скачкам нашего разговора – и только старался не отставать от моего странного собеседника. А он, напротив, говорил с таким видом, как будто все эти аксиомы, которые он столь уверенно высказывал, вытекали одна из другой последовательно и логично, хотя вы в то же время чувствовали, что ему совершенно все равно, соглашаетесь ли вы с ним или нет.
– Если вы так властолюбивы, – начал я, – и такого высокого мнения о духовенстве, – отчего же вы сами не пошли по этой дороге, не сделались священником?
– Ваше замечание справедливо, милостивый государь; но я метил выше. Я сам хотел основать религию. И я попытался… во время моего пребывания в Америке. Впрочем, не я один имел это намерение. Там этим вообще занимаются.
– Вы тоже были в Америке?
– Я там два года прожил. Вы, может быть, заметили – я вынес оттуда скверную привычку жевать табак. Не курю и не нюхаю… а жую. Извините! (Он сплюнул в сторону.) Так вот в чем дело: я хотел основать религию и уже придумал было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она принялась, надо быть мучеником, кровь свою пролить… Без этого цемента фундамента не выведешь. Не то, что на войне: там гораздо полезнее чужую кровь проливать. А свою… нет! я этого не хотел. Слуга покорный!
Он помолчал с минуту.
– Вы меня сейчас назвали властолюбивым, – заговорил он снова. – Это вы правду сказали. Я, например, уверен, что я еще буду королем.
– Королем?
– Да, королем… На каком-нибудь необитаемом острове.
– Королем… без подданных?
– Подданные всегда найдутся. У вас в России есть поговорка: «Было бы корыто» и т. д. Людям это свойственно – подчиняться. Нарочно в мой остров через море переплывут, чтобы только подчиниться властителю. Это верно.
«Да ты сумасшедший!» – подумал я про себя.
– Не оттого ли вы полагаете, – промолвил я громко, – что французы подчинятся Бонапартам?
– По этой именно причине, милостивый государь.
– Позвольте, позвольте, – воскликнул я, – ведь у французов и теперь есть король, властитель. Стало быть, та людская потребность, о которой вы говорите, потребность подчиняться – удовлетворена.
Мой собеседник покачал головою.
– В том-то и штука, что нынешний наш король, Лудовик-Филипп, вовсе не чувствует себя королем, властителем. Впрочем, мы не хотели говорить о политике.
– Вы предпочитаете философию? – заметил я.
Он сплюнул свой жевательный табак далеко в сторону, по-американски.
– Ага! Вам угодно иронизировать? Что ж? Я и от философии не прочь; тем более что она у меня очень проста и вовсе не похожа, например, на немецкую философию, которую я, впрочем, совсем не знаю, но ненавижу, как и всех немцев. – Глаза незнакомца внезапно разгорелись. – Я ненавижу их, ибо я патриот. Ведь и вы тоже, как русский, должны их ненавидеть?
– Позвольте… я…
– А коли нет – тем хуже для вас. Вот погодите – они еще дадут вам себя знать. Я их ненавижу, я их боюсь, – прибавил он, понизив голос, – и одно из моих лучших воспоминаний состоит в том, что и мне удалось стрелять по ним, по этим немцам!
– Вы стреляли? где же это?
– А опять-таки в Италии. Я участвовал… Впрочем, постойте. Мы, кажется, беседовали о философии. Честь имею доложить вам, что вся моя философия заключается в следующем: в человеческой жизни есть два несчастия – рождение и смерть. Второе несчастие менее велико… оно может быть добровольным.
– А сама жизнь?
– Гм! гм! Этого разом не определишь. Но заметьте, что и в жизни есть только две хорошие вещи: а именно – когда человек способствует рождению… или смерти, то есть одному из тех двух несчастий, о которых была речь. «Guerra, caza у amores»[3 - «На войне, на охоте и в любви» (исп.)], – говорят испанцы.
Я случайно знал эту поговорку.
– Вы забываете второй стих, – заметил я. – «Рог un placer mil dolores»[4 - «За одно наслаждение – тысяча страданий» (исп.)].
– Прекрасно! Вот вам и доказательство верности моей философии. А впрочем, – прибавил он, быстро вставая со стула, – мы достаточно поболтали. До свидания!
– Погодите… постойте! – воскликнул я. – Мы с вами разговаривали около часа – а я еще не знаю, с кем я имел честь…
– Вы хотите знать мое имя? К чему вам оно? Ведь я не спрашивал вас о вашем. Я не спрашивал вас также о том, где вы живете, – и не считаю нужным сказать вам, где я живу, в какой пребываю трущобе. Мы сходимся здесь – ну и прекрасно. Ведь моя беседа вам нравится? – Он насмешливо прищурил глаза. – Я вам нравлюсь?
Меня немножко покоробило. Очень уже бесцеремонен был этот господин.
– Я вами интересуюсь, милостивый государь, – отвечал я с преднамеренной расстановкой, – но вы мне не нравитесь.
– А я вами не интересуюсь – но вы мне нравитесь. Кажется, этого довольно для таких отношений, каковы наши. Если угодно, зовите меня… ну, хоть monsieur Francois. А вас, если позволите, я буду звать monsieur Ivan. Ведь почти все русские Иваны. Я в этом удостоверился в то время, когда имел неудовольствие состоять гувернером у одного вашего генерала, в одной вашей губернии. И глуп же был этот генерал – и бедна ж была эта губерния! Засим прощайте, monsieur Ivan!
Он повернулся – и пошел.
– Прощайте, monsieur Francois, – крикнул я ему вслед.
* * *
«Что за человек? – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой. – Что за странное существо! Дразнит ли он меня, выдумывает разные небылицы или действительно убежден в том, что говорит?.. Что он делает? Чем занят? Какое его прошедшее? Кто он? Неудавшийся литератор, публицист, школьный учитель, разоренный промышленник, обедневший дворянин, актер в отставке? И чего он добивается теперь? И почему он выбрал именно меня в свои поверенные?»
Все эти вопросы я себе ставил… и разрешить их, конечно, не мог. Но мое любопытство было затронуто – и я не без некоторого волнения отправился на другой день в Пале-Рояль. На этот раз я, однако, напрасно прождал моего чудака; зато на следующий день он опять появился под навесом кофейной.
– A! Monsieur Ivan! – воскликнул он, как только меня завидел: – Здравствуйте. Вот нас опять свела судьба. Как вы поживаете?
– Он слывет за великого эгоиста, – заметил я.
– Да; и в этом его сила. У него у одного достало смелости быть эгоистом – и посмешищем – до конца. Оттого он меня и забавляет. Прочту страницу, другую… посмеюсь над ним, над самим собою… и баста!
– Ну – а поэты?
– Поэты занимаются музыкою слов, словесной музыкой. А вы знаете мое мнение о музыке.
– Что же должно читать? И что должен, например, читать народ? Или вы полагаете, что народу читать не следует?
(Я заметил на одном из пальцев незнакомца кольцо с гербом; несмотря на его мизерный и обтерханный вид, мне сдавалось, что он должен придерживаться аристократических мнений; а быть может, и сам он по происхождению принадлежал аристократии.)
– Напротив, – отвечал он. – Народ должен читать; но что он читает – это совершенно безразлично. Говорят, ваши мужики все одну и ту же книжку читают. («Францыл Венецианец», – мелькнуло у меня в голове.) Дочитают один экземпляр – другой такой же купят. И прекрасно делают. Это придает им важности в собственных глазах и мешает им размышлять. А кто в церковь ходит – тому и вовсе читать не нужно.
– Вы придаете такое значение религии? Незнакомец покосился на меня через края очков.
– Я в Бога плохо верю, милостивый государь; но религия – дело важное. Служить ей… быть попом едва ли не лучшее звание. Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелевать с смирением – и повиноваться с гордостью, вот и весь секрет. Власть… власть… обладать властью – другого счастья на земле нет!
Я уже начал привыкать к неожиданным скачкам нашего разговора – и только старался не отставать от моего странного собеседника. А он, напротив, говорил с таким видом, как будто все эти аксиомы, которые он столь уверенно высказывал, вытекали одна из другой последовательно и логично, хотя вы в то же время чувствовали, что ему совершенно все равно, соглашаетесь ли вы с ним или нет.
– Если вы так властолюбивы, – начал я, – и такого высокого мнения о духовенстве, – отчего же вы сами не пошли по этой дороге, не сделались священником?
– Ваше замечание справедливо, милостивый государь; но я метил выше. Я сам хотел основать религию. И я попытался… во время моего пребывания в Америке. Впрочем, не я один имел это намерение. Там этим вообще занимаются.
– Вы тоже были в Америке?
– Я там два года прожил. Вы, может быть, заметили – я вынес оттуда скверную привычку жевать табак. Не курю и не нюхаю… а жую. Извините! (Он сплюнул в сторону.) Так вот в чем дело: я хотел основать религию и уже придумал было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она принялась, надо быть мучеником, кровь свою пролить… Без этого цемента фундамента не выведешь. Не то, что на войне: там гораздо полезнее чужую кровь проливать. А свою… нет! я этого не хотел. Слуга покорный!
Он помолчал с минуту.
– Вы меня сейчас назвали властолюбивым, – заговорил он снова. – Это вы правду сказали. Я, например, уверен, что я еще буду королем.
– Королем?
– Да, королем… На каком-нибудь необитаемом острове.
– Королем… без подданных?
– Подданные всегда найдутся. У вас в России есть поговорка: «Было бы корыто» и т. д. Людям это свойственно – подчиняться. Нарочно в мой остров через море переплывут, чтобы только подчиниться властителю. Это верно.
«Да ты сумасшедший!» – подумал я про себя.
– Не оттого ли вы полагаете, – промолвил я громко, – что французы подчинятся Бонапартам?
– По этой именно причине, милостивый государь.
– Позвольте, позвольте, – воскликнул я, – ведь у французов и теперь есть король, властитель. Стало быть, та людская потребность, о которой вы говорите, потребность подчиняться – удовлетворена.
Мой собеседник покачал головою.
– В том-то и штука, что нынешний наш король, Лудовик-Филипп, вовсе не чувствует себя королем, властителем. Впрочем, мы не хотели говорить о политике.
– Вы предпочитаете философию? – заметил я.
Он сплюнул свой жевательный табак далеко в сторону, по-американски.
– Ага! Вам угодно иронизировать? Что ж? Я и от философии не прочь; тем более что она у меня очень проста и вовсе не похожа, например, на немецкую философию, которую я, впрочем, совсем не знаю, но ненавижу, как и всех немцев. – Глаза незнакомца внезапно разгорелись. – Я ненавижу их, ибо я патриот. Ведь и вы тоже, как русский, должны их ненавидеть?
– Позвольте… я…
– А коли нет – тем хуже для вас. Вот погодите – они еще дадут вам себя знать. Я их ненавижу, я их боюсь, – прибавил он, понизив голос, – и одно из моих лучших воспоминаний состоит в том, что и мне удалось стрелять по ним, по этим немцам!
– Вы стреляли? где же это?
– А опять-таки в Италии. Я участвовал… Впрочем, постойте. Мы, кажется, беседовали о философии. Честь имею доложить вам, что вся моя философия заключается в следующем: в человеческой жизни есть два несчастия – рождение и смерть. Второе несчастие менее велико… оно может быть добровольным.
– А сама жизнь?
– Гм! гм! Этого разом не определишь. Но заметьте, что и в жизни есть только две хорошие вещи: а именно – когда человек способствует рождению… или смерти, то есть одному из тех двух несчастий, о которых была речь. «Guerra, caza у amores»[3 - «На войне, на охоте и в любви» (исп.)], – говорят испанцы.
Я случайно знал эту поговорку.
– Вы забываете второй стих, – заметил я. – «Рог un placer mil dolores»[4 - «За одно наслаждение – тысяча страданий» (исп.)].
– Прекрасно! Вот вам и доказательство верности моей философии. А впрочем, – прибавил он, быстро вставая со стула, – мы достаточно поболтали. До свидания!
– Погодите… постойте! – воскликнул я. – Мы с вами разговаривали около часа – а я еще не знаю, с кем я имел честь…
– Вы хотите знать мое имя? К чему вам оно? Ведь я не спрашивал вас о вашем. Я не спрашивал вас также о том, где вы живете, – и не считаю нужным сказать вам, где я живу, в какой пребываю трущобе. Мы сходимся здесь – ну и прекрасно. Ведь моя беседа вам нравится? – Он насмешливо прищурил глаза. – Я вам нравлюсь?
Меня немножко покоробило. Очень уже бесцеремонен был этот господин.
– Я вами интересуюсь, милостивый государь, – отвечал я с преднамеренной расстановкой, – но вы мне не нравитесь.
– А я вами не интересуюсь – но вы мне нравитесь. Кажется, этого довольно для таких отношений, каковы наши. Если угодно, зовите меня… ну, хоть monsieur Francois. А вас, если позволите, я буду звать monsieur Ivan. Ведь почти все русские Иваны. Я в этом удостоверился в то время, когда имел неудовольствие состоять гувернером у одного вашего генерала, в одной вашей губернии. И глуп же был этот генерал – и бедна ж была эта губерния! Засим прощайте, monsieur Ivan!
Он повернулся – и пошел.
– Прощайте, monsieur Francois, – крикнул я ему вслед.
* * *
«Что за человек? – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой. – Что за странное существо! Дразнит ли он меня, выдумывает разные небылицы или действительно убежден в том, что говорит?.. Что он делает? Чем занят? Какое его прошедшее? Кто он? Неудавшийся литератор, публицист, школьный учитель, разоренный промышленник, обедневший дворянин, актер в отставке? И чего он добивается теперь? И почему он выбрал именно меня в свои поверенные?»
Все эти вопросы я себе ставил… и разрешить их, конечно, не мог. Но мое любопытство было затронуто – и я не без некоторого волнения отправился на другой день в Пале-Рояль. На этот раз я, однако, напрасно прождал моего чудака; зато на следующий день он опять появился под навесом кофейной.
– A! Monsieur Ivan! – воскликнул он, как только меня завидел: – Здравствуйте. Вот нас опять свела судьба. Как вы поживаете?