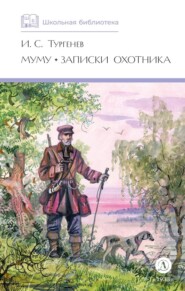По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы
Иван Сергеевич Тургенев
Библиотека Всемирной Литературы
Проза И.С. Тургенева, пожалуй, самая изысканная в русской классической литературе, живописная, стилистически безупречная. Как психологически верны, живы его характеры, какими минимальными средствами писатель достигает такой невероятной художественной изобразительности. И вечный конфликт отцов и детей выписан блестяще. Как точно писатель чувствует историческую ситуацию, те тенденции, которые зреют в обществе. Не случайно романы И. Тургенева и в России и за рубежом воспринимались как художественный комментарий к русским революционным событиям пореформенной России.
В книгу включены знаменитые произведения И. Тургенева о любви, ведь «только любовью держится и движется жизнь», о лишнем человеке, а также мистические произведения писателя, не менее значимые для его творческого пути, но значительно менее растиражированные. Всеми важными открытиями Иван Тургенев щедро делится с читателем в своих произведениях.
Предваряет книгу вступительное слово Дмитрия Быкова, в основу которого положена лекция, прочитанная к 200-летию со дня рождения писателя, расшифрованная и подготовленная к изданию специально для этой книги. В ней представлен оригинальный взгляд на творчество Ивана Тургенева – самого европейского русского писателя XIX века.
Иван Тургенев
Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы
В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художников Витторио Маттео Коркоса, Сергея Виноградова и Николая Ге
© Быков Д.Л., вступительное слово, 2020
© ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Что завещал нам Тургенев
Лекция эта была прочитана в Тургеневской библиотеке к 200-летию писателя. Править ее я не стал, убрал только повторы и уточнил цитаты. Мне кажется, в прямом обращении к аудитории есть плюсы: можно без долгих мудрствований сказать о главном. Это тоже один из уроков Тургенева, всегда приступавшего к делу без долгих предисловий.
1
Случилось так, что ХХ век был веком Толстого, Достоевского и Чехова. Толстого и Достоевского, противостоящих друг другу по всем параметрам, а Чехова, как бы примиряющего их, хоть и несколько искусственно. Толстой убежден, что в основе всего – семья и вера, а без них человек беспомощен. Достоевский полагает, что ни семья, ни вера не спасут, а Бог открывается только в падении. Чехов говорит, что все вообще абсурдно и не следует об этом вести утомительные и бессмысленные русские споры, которые всегда на поверку оказываются спорами о черемше и чихиртме. Пойдите-ка лучше, как он говорил провинциальным учителям, когда они спрашивали его о смысле жизни, съешьте селянки и непременно с графинчиком.
Тургенев в русской литературе стоит наособицу. Я думаю, что сейчас, когда он вступает в третий век своего существования, когда мы недавно отметили его 200-летие, – наступает век Тургенева, век, когда скомпрометированы все ценности и наступает пора умного вчитывания, пора подтекстов, пора изящества, вообще пора тургеневских открытий. Тургенев, смею сказать, самый умный из всех русских писателей и самый воспитанный. Воспитанность начинает цениться. К Толстому смешно применять даже такое понятие: ураган не может быть хорошо воспитан. Достоевский – сплошная невоспитанность, которая действительно врывается в ваш дом и начинает задыхающимся шепотком говорить чрезвычайно неприятные вещи. Чехов, как говорил о нем Толстой, тихий как барышня, но этим своим тихим голосом тоже говорит чудовищные слова, ну например: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие».
А вот Тургенев – именно воспитанный человек. И думаю, что России скоро понадобятся ценности хорошего воспитания. Не зря говорили Стругацкие, что выше человека разумного стоит человек воспитанный, а вот как его воспитывать – никто еще не понял.
Не будет большим преувеличением сказать, что русская литература часто брала у Запада форму и насыщала ее своим содержанием, то есть в западную лайковую перчатку вставляла свой мосластый кулак. Форма толстовского главного произведения – «Войны и мира» – сама форма романа, где мясо авторских отступлений виснет на тоненьких ребрышках фабулы, почерпнута из «Отверженных», вплоть до бесчисленных лирических, философских и политических отступлений и рисования карты военных действий в вводной главе про Ватерлоо (у Толстого, соответственно, про Бородино). Толстой потому и ждал семь лет, придумав роман еще в 1856 году, что в 1862 вышли «Отверженные» – и сразу стало понятно, как организовывать необъятный материал. Правда, смысл толстовского романа совершенно противоположен. Гюго яростно доказывает, что один человек способен сделать мир моральнее, Толстой же, пользуясь повествовательной структурой Гюго, доказывает, что ни один человек, даже Наполеон, своей волей не может изменить в мире ничего, что действует равнодействующая миллионов воль (а Наполеона он презирает так же искренне, как Гюго его боготворил). Страшно представить, что случилось бы с Жаном Вольжаном под толстовским пером.
Точно так же глубокой зависимости от западных образцов – прежде всего от Диккенса, – не скрывает Достоевский. Мало того, что «Униженные и оскорбленные» – практически «Лавка древностей» и девочка Нелли взята даже без изменения имени. Но и диккенсовские чудаки наводняют его книги, и диккенсовская криминальная фабула, судебная драма в основе его произведений. Я уже не говорю о том, что Петербург Достоевского – в сущности Лондон Диккенса, буквально перенесенный в наши широты. Ведь все, кто бывал в летнем Петербурге, даже тогдашнем, описывают его как город светлый, прозрачный, созданный для рекреации, для державных трудов и радостного отдыха: острова, пленительная архитектура, державная мощь, изящество всего, воздушные мосты, невская перспектива. Вспомните хоть Петербург глазами Дюма, сказавшего, что приехать сюда стоило для одного того, чтобы взглянуть на решетку Летнего сада. Или Петербург глазами Льюиса Кэролла: «Чрезвычайная ширина улиц (даже второстепенные шире любой в Лондоне), крошечные дрожки, шмыгающие вокруг, явно не заботясь о безопасности прохожих <…>, огромные пестрые вывески над лавками, гигантские церкви с усыпанными золотыми звездами синими куполами, и диковинный говор местного люда – все приводило нас в изумление <…> [Город] настолько непохож на все, что мне доводилось видеть, что, кажется, я мог бы много дней подряд просто бродить по нему; <…> Невский с многочисленными прекрасными зданиями мы прошли весь <…> это, верно, одна из самых прекрасных улиц в мире; она оканчивается, возможно, самой большой площадью в мире, площадью Адмиралтейства; в ней не менее мили длины, причем Адмиралтейство занимает одну из ее сторон почти целиком». И сравните это со страшным зловонным городом, который описывает Достоевский. Вот уж подлинно Петербург глазами москвича, который вдобавок ненавидит все западное. Конечно, Петербург Достоевского навеян грязным, туманным Лондоном Диккенса. Ведь Петербург задумывался Петром, как город прорыва, как город светлый, в значительной степени жизнерадостный. Где мы найдем эту жизнерадостность у Достоевского, если даже летний Петербург полон у него каких-то ремонтных работ, там все время воняет и все живут в каморках, хотя в каморках жили только студенты вроде Раскольникова, да и те скорее всего воспринимали свою жизнь несколько более радостно?
Не скрывает своей преемственности с Байроном Пушкин, который находится с ним в отношениях литературного соперничества, несколько сложнее с Лермонтовым, но нетрудно догадаться, на кого ориентируется он. И более того, просто прямо пародирует. Жестокая пародия на «Фауста» содержится в «Сказке для детей», где рифма «профиль» и «Мефистофель» во второй раз появляется в русской литературе. Сначала все-таки у Пушкина: «Зачем твой дивный карандаш / Рисует мой арапский профиль? / Хоть ты векам его предашь, / Его освищет Мефистофель». Прямой пародией на «Страдания юного Вертера» является «Герой нашего времени», даже есть там свой Вертер, который отличается всего на одну букву, несчастный Вернер. Если юный Вертер жестоко страдает от любви, от оскорбленной любви, то Печорин в любви колоссально счастлив: так и падают сраженные им женщины, то Вера, то Мери, то Бэлла, которая сражена в буквальном смысле. Гете владеет воображением Лермонтова настолько, что он написал, наверное, самый известный перевод из Гете «Не пылит дорога, / Не дрожат листы… / Подожди немного, / Отдохнешь и ты», – тот самый знаменитый дуб, под которым было написано это стихотворение, стоял в центре Бухенвальда, что тоже, к сожалению, не случайно.
Так вот почти у каждого русского прозаика и поэта есть некий европейский прототип, на который они ориентируются. Даже у Чехова он есть, это не Мопассан, как думают многие, а Метерлинк, потому что вся чеховская драматургия – символистские драмы Метерлинка, очень аккуратно перенесенные в русские усадебные условия. Разговаривают они ровно как герои Метерлинка, но сидят при этом в разваливающемся поместье, на чем основан комический эффект чеховской драматургии, а «Люди, львы, орлы и куропатки» – это прямая пародия на символистскую драму. У всех есть прототип, и нет его только у Тургенева, потому что Тургенев – единственный русский писатель, который не учился у Запада, который сам смог повлиять на западную прозу. Достаточно сравнить роман во Франции до Тургенева и после появления его прозы. Тогдашний роман – классический роман-фельетон, рассчитанный на газетную публикацию, и надо вам сказать, что через эту болезнь пухлых огромных социальных романов с острыми фабулами прошли все, не только Дюма. Первые романы Золя, например, «Тереза Ракен», так же неумеренны, так же длинны, и в них так же много скандальных газетных подробностей. Это романы в газетной форме, романы, существующие за счет газетного подвала. Собственно Тургенев – человек финансово независимый, как раз и научил французскую литературу этой финансовой независимости, научил не зависеть от бумажного носителя.
Тургенев оказался в русской прозе в положении того единственного европейца, которым называл в свое время Пушкин наше правительство, но если в отношении правительства это сомнительно, то в отношении Тургенева, к сожалению, верно. Он оказался в позиции благовоспитанного мальчика, который пришел сказать какую-то свою правду в компанию очень талантливых и плохо воспитанных детей, причем небогатых, разновозрастных, шумливых. И, конечно, он оказался ими оттеснен. Но только в той среде, о которой мы с вами говорим, среде нашей, родной, российской. Тогда как, например, в Европе современники были от него в восторге. Флобер ставил его значительно выше Толстого, которого упрекнул в одном из писем в том, что тот слишком повторяется и слишком философствует – к сожалению, и то и другое верно, хотя ничуть Толстому не вредит. Мопассан считал Тургенева не только изобретателем слова «нигилизм», что было, наверное, его главной литературной заслугой в России, но и, безусловно, первым из европейских мастеров саспенса, один из устных рассказов Тургенева лег в основу мопассановской новеллы «Страх», а из «Муму» сделана «Мадемуазель Кокотка» – увы, несколько испорченная в мопассановском пересказе.
Тургенев вообще любил наговаривать рассказы по-французски. Он говорил: «По-французски я не думаю о стиле». Вот и последний его рассказ за три дня до смерти надик-тован по-французски. Европа Тургенева ценила и правильно делала. Из Тургенева в Европе выросли многие, вышли, как из гоголевской «Шинели». Европейский идеологический роман, каким мы знаем его, – короткий, насыщенный диалогами, лишенный однозначной позиции (как романы Гюисманса, например, или Дюамеля, или Жида, а Гончаров в раздражении писал даже о «тургеневско-флоберовском» жанре) – вырос вовсе не из толстовской традиции, которая сама в свою очередь восходит к бурному и неправильному роману Гюго, а вырос из родного Тургенева. Тургенев популярен в Англии, его любит Германия – в общем, он обладает безоговорочным авторитетом на Западе, а для нас же с вами он подозрительно благовоспитан. Не говоря уже о том, что о морали тургеневского романа мы, как правило, не можем судить однозначно. Нам совершенно непонятно, для чего нам это все так хорошо рассказано и на чьей же стороне автор. Знаменитая двойственность тургеневской позиции, выбор между человеком сильным, но жестоким и человеком рефлексирующим, умным, но бесполезным наиболее наглядно обозначены в его саморазоблачительной статье «Гамлет и Дон Кихот», где все симпатии автора формально на стороне Дон Кихота, а любовь на стороне Гамлета.
2
Тургеневский роман отличался теми пятью чертами, которые я из года в год повторяю школьникам, и эти пять черт сформировали европейскую беллетристику, как мы ее знаем. Прежде всего – это роман короткий. Лучшим, внимательнейшим учеником Тургенева был, конечно, Мопассан. Самый тургеневский и, наверное, самый совершенный роман Мопассана «Монт-Ориоль», в котором все черты тургеневского романа присутствуют, наглядно все это иллюстрирует. Краткость необходима для того, чтобы, во-первых, читателя не утомлять, чтобы во-вторых, соблюсти пропорции, потому что многостраничные романы Достоевского, гигантский эпос Толстого – в общем, созданы для русского неумеренного пространства, а европейский роман, который компактен, полностью соответствует очень точной формуле Василия Розанова – русский синтаксис, русское предложение так бесконечны потому, что бесконечно тянется русская равнина, русские собеседники в поезде могут говорить ночами, а французские собеседники должны уложиться в час, пока проедешь Францию из конца в конец – успеешь рассказать ровно то, что нужно. Тогда как для русского человека это только повод, чтобы начать: «Ну-с, милостивый государь, и история же со мной приключилась». И дальше еще пять страниц предисловия.
Тургенев не любит долгой экспозиции, его роман изящен, лаконичен и, в общем, абсолютно независим от той формы, в которой он будет подаваться, скажем, от журнальной книжки. Тургеневский роман обладает всеми пропорциями идеального рассказа и, разумеется, масштабной, истинно романной проблематикой.
Вторая особенность тургеневского романа – его полифоничность. Принято считать, с легкой руки Бахтина, что полифоничность в русской литературе олицетворяет Достоевский. У Достоевского, который, как мы знаем, предпочитал диктовать свои поздние сочинения, мы все время слышим этот яростный шепоток, больше того – мы слышим не только его интонацию, с которой разговаривают все его герои, бог с ними, мы слышим, когда он останавливается отхлебнуть своего знаменитого черного крепчайшего чая или закурить египетскую папиросу (20 набитых им на следующую диктовку папирос так и лежат в Музее-квартире Достоевского). Мы знаем, когда он делает паузы, когда он набирается духу, мы все время слышим его голос, говорящий читателю «туда не ходи, сюда ходи». Если отрицательный герой, так уж он непременно красавец, если положительный, так внешность у него не авантажная и голос сиплый, и, разумеется, все подпольные авторские комплексы перенесены на героев во всей великолепной полноте. Где же здесь полифония, когда мы всегда понимаем, какова любимая авторская идея, а иногда, как в финале «Подростка», он в письме одного из посторонних персонажей прямо появляется для того, чтобы произнести мораль? А вот у Тургенева мы никогда не знаем, на чьей стороне автор. Больше того, Тургенев задолго до Леонида Леонова (Леонов поделился этой мыслью с Чуковским, она зафиксирована в дневнике) освоил главную заповедь русского писателя: заветные мысли надо отдавать отрицательному герою, тогда вы будете неуязвимы. Например, Потугину отданы заветные авторские мысли, а Потугин не то, чтобы отрицательный, но сомнительный персонаж, ненадежный моралист, а мысль заветная, тургеневская – если бы мы исчезли, мы не оставили бы по себе даже английской булавки. Другое дело, что это не единственная мысль. Настроение у Тургенева меняется, и иногда он ненавидит Европу и ее пошлость, а иногда он влюблен в ее дух. Но факт остается фактом – мы никогда не знаем, на чьей стороне Тургенев. Мы не знаем, за кем будущее.
То есть мораль тургеневского романа, как правило, нельзя выразить словами, она возникает на пересечении многих лучей, перекрестье многих вариантов, она сама по себе никогда не преподносится, она формулируется нами, и мы никогда не можем быть уверены в том, что правильно прочли роман. Например, «Новь», например, «Дым», наверное, самый сложный для трактовки из всех тургеневский романов. Роман, рассказывающий о том, что все дым и дым, и в русской политике, и в русском искусстве, и в русской жизни. Все дым, кроме Татьяны, которая по сравнению с Ириной такая простая, такая неинтересная, но если ты хочешь прожить нормальную жизнь, то беги от Ирины, – что, собственно, Тургенев и сделал в смысле географическом, потому что Ирина, вообще сильная женщина, олицетворяющая у него, как правило, Россию, для героя становится источником гибели. Или во всяком случае гибели духовной. Не случайно возлюбленная Павла Петровича, она же Сфинкс, называется именно княгиней Р. По этому инициалу мы опознаем в ней Россию безошибочно. Она умнее, чем кажется, она не знает, чего она хочет, и она то приманивает, то отталкивает влюбленных в нее: она не знает, что с ними делать. То, что Фенечка так на нее похожа, тоже довольно важный знак. Почему же, собственно, Николай Петрович – главный и любимый герой этого странного романа? Почему именно ему достается все? И о чем, собственно говоря, написан этот роман – главный предшественник русского идейного романа вроде «Бесов», вроде «Что делать?» и им подобных. Я полагаю, причина, которая заставила Тургенева писать эту книгу, была для 1859–1861 годов, когда роман пишется и печатается, достаточно актуальна. Тогда еще не было понятно, насколько эта русская матрица точно самовоспроизводится. Сейчас даже те политологи, которые никак не желали мириться с ее существованием – ну, например, Швецова – уже пишут в «Новой газете» открытым текстом, что эта матрица существует и мы пока из нее не выпрыгнули.
Я помню, когда мне приходилось эту четырехтактную схему излагать, много лет тому назад, когда впервые печатались «ЖД», это вызывало постоянные упреки в механицизме, в фатализме, в других каких-то вещах, в словах, которых я не знаю просто. Но сейчас уже очевидно: русский исторический цикл устроен так, что примерно раз в поколение колесо проворачивается на четверть. И в процессе этого поворота образуется та самая коллизия, о которой впервые сказал Лермонтов – очень любимый, кстати говоря, Тургеневым и герой его прекрасного мемуарного очерка. Лермонтов сказал об этом:
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит язвительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Коллизия отцов и детей впервые обозначена здесь. Все русские отцы обречены вступать в жесточайший идейный спор со своими русскими детьми. Не бывает так, чтобы осуществлялась преемственность, всегда щелкает это колесо. Я не знаю, что надо делать, чтобы совпадать со своим сыном идеологически…
Тот факт, что каждый отец с каждым сыном оказываются даже не в противофазе, как уже было сказано, а вот под этим страшным девяностоградусным углом без элементарного взаимопонимания, он для всей русской литературы абсолютно очевиден только с того момента, как об этом Тургенев написал роман «Отцы и дети». Потому что весь пафос, весь смысл этого романа сводится к одному: господа, если вы не научитесь путем элементарной, старомодной, сентиментальной человечности преодолевать неизбежные разломы русской матрицы, вы обречены лежать на тихом кладбище, и лопух из вас будет расти. Вы обречены исторически.
И отсюда – третья черта тургеневских романов: они актуальны, и это позволяет им быть вечными. В России, если хочешь быть актуальным для всех поколений, к сожалению, надо тесно быть привязанным к той реальности, которую описываешь. Иной романист думает, что надо говорить о вечном. В России нет ничего более вечного, чем преходящее, потому что все повторяется, все перещелкивается каждые 25 лет. Каждые отцы оказываются в оппозиции к поколению детей, каждое следующее поколение, шестидесятники к девяностникам, девяностники к нулевикам, оказываются в перепендикуляре. И Тургенев оказывается прав применительно ко всем эпохам.
«Новь» можно читать сегодня как абсолютно актуальное произведение, только Соломиным уже нет никакой веры и понимаем мы, что Марианна никакого моря не зажжет, но в целом мало что изменилось. Самое удивительное в Тургеневе – то, что за счет поразительно точной привязки к эпохе он сохраняет свое совершенно партизанское действие, он наш подпольный союзник. Читаем ли мы у него о губернаторе-реформаторе, который умеет только хамить подчиненным, – помните, в «Отцах и детях» этот молодой губернатор, типичный назначенец конца 50-х, который приехал в провальный регион, думая, что он здесь и сейчас проведет реформы. Тургенев к реформам относился гораздо насмешливее, чем к консерватизму, потому что, как говорил Писарев в письме о «Дыме»: «Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками». Вот почему ненависть Тургенева к реформаторам сильнее его ненависти к консерваторам: консерваторы, бог бы с ними, они ни на что не претендуют. Но вот эта мучительная актуальность любого тургеневского романа покупается бесконечной вдумчивостью, бесконечной внимательностью во вглядывании в современность. И конечно, чем дальше, тем виднее удаленность Тургенева от России, которая приводила к тому, что он видел происходящее в России незамутненно.
Четвертая важная черта тургеневских романов, которая в западном романе оказалась на первом плане, – отсутствие сюжета, то есть, строго говоря, фабулы. В чем фабула «Отцов и детей»? Два друга-студента ездят в гости из одного поместья в другое? К сожалению, это тоже осталось важной чертой русской жизни, русская жизнь бесфабульна, в ней мало, что происходит, но в подспудном ее течении всегда зреют великие события. И нет никаких сомнений в том, что изящество, скажем, французской прозы во многом, изящество нового романа, который связан уже с 50–60-ми годами прошлого века – тургеневское завоевание. «Прошлым летом в Мариенбаде» – абсолютно тургеневский роман, когда мы вообще не знаем, что происходит и происходит ли. Когда автор транслирует тончайшие настроения и рассказывает о них тончайшими намеками, грубых мазков масляной кистью мы не найдем у Тургенева нигде. Иногда в его романах, ну как, например, в «Накануне», происходит, конечно, некоторое сюжетное движение, но как раз с сильными героями, которые производят это сильное движение, у Тургенева наблюдается довольно последовательный антагонизм. Тургеневу сильный герой неприятен, но об этом поговорим отдельно, когда коснемся «Муму».
Наконец, пятая черта тургеневского романа, которая делает его таким привлекательным для читателя: я в детстве, когда болел, все время перечитывал Тургенева. Тургеневский роман насмешлив, ироничен. Сатира – абсолютно органичная для него черта. Невозможно с абсолютной серьезностью воспринимать абсурд политической жизни, тысячу раз переспоренные споры, претенциозность всякой нови и тупое самодовольство старины: Тургенев насмешлив, как умный и многое повидавший наблюдатель, который и себя не щадит. «Мы самих себя изучаем с большим прилежанием и воображаем потом, что знаем людей», – как говорит Наталья Петровна в «Месяце в деревне», – но другого способа понимать людей не придумано.
Важно и то, что всякий тургеневский роман автобиографичен. В нем всегда, хотя и в очень искаженном виде, но всегда узнаваемо, изложены те самые коллизии, те самые глубокие внутренние борения, которые в этот момент владеют Тургеневым. И это позволяет нам понять, кто же протагонист в «Отцах и детях», кто тот главный герой, вокруг которого все вертится. Мы уже привыкли, что протагонист Тургенева, герой, в котором мы можем его узнать, – это человек слабый, романтический, сентиментальный. Человек, который всю жизнь завидует людям действия и комплексует перед ними. Человек добрый, утонченный, отчасти, конечно, эгоистичный, как сам Тургенев, но при этом беззаветно любящий искусство и свое ремесло, да к тому же очень сильно переживающий из-за того, что у него есть незаконный ребенок от крепостной крестьянки. Это тургеневская автобиографическая коллизия.
Тургенев аккуратно спрятан в Николая Петровича Кирсанова, потому что и его собственная незаконная дочь от крестьянки долгое время как «терпеливая умница», ласточка в чужом гнезде, как сказано в одном стихотворении в прозе, жила в чужом доме. И этот вечный грех у него всегда на совести. И история с Фенечкой всегда на его памяти. И уж, конечно, ситуация, в которой именно Николаю Петровичу достается в романе все хорошее, тоже подстроена Тургеневым не без тайного умысла. Ведь единственный моральный победитель в романе – это Николай Петрович. Павел Петрович уехал за границу, он абсолютно выжжен, у него нет никаких перспектив. Базаров умер от пореза пальца. Аркадий Николаевич «в галки попал», выгодно женился, хотя и по любви, но по любви глупой, без приключений, без всякой романтики. Одинцова, тоже одна из любимых тургеневских героинь, замужем без любви, – «но, может быть, доживутся до любви». Один Николай Петрович получает в свое распоряжение Фенечку, Митеньку, прекрасное село, в котором все идет не как надо, и Базаров-то приезжает и говорит: «Как нерационально все устроено!» Тем не менее эта нерациональность и есть залог жизненности. Кто главный приобретатель в «Отцах и детях»? Кому больше всех повезло? Николаю Петровичу, конечно: его любит Фенечка, так похожая на княгиню Р., у него сын, у него имение, которое по всем моральным и экономическим соображениям давно бы должно было рассыпаться. Но это если подойти к делу с позиций рациональных базаровских, если почитать «Стофф унд крафт». А если не читать «Материю и силу», тогда все и выходит; все держится на честном слове, но держится. Более того, любимые черты Тургенева приданы Николаю Петровичу, pater familias в глубине русской губернии играет на виолончели. А что еще можно делать в глубине Курской губернии?
Это и есть ответ Тургенева, он награждает бонусами самого незаметного и в каком-то смысле самого неавантажного героя, он вообще почти ничего не произносит, никаких максим, но он прав, и он лучше своего брата с его бристольскими картонными воротничками. Он лучше Базарова, который гибнет. Почему гибнет Базаров? Базаров гибнет не от пореза пальца. Вот эта удивительная, кстати, история, когда Писарев, прочитавши «Дым», в частном письме Тургеневу пишет: «Куда вы девали Базарова? Неужели вы действительно полагаете, что первый и последний Базаров умер от пореза пальца?» Ну, разумеется, он умер не от этого, он умер от того, что он не вписался в жизнь, что у него нет навыков вписываться в жизнь, вставлять себя, вглаживать, каким-то образом врастать… «Мне мечталась, – говорит Тургенев (все замучились повторять эту несчастную цитату), – фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – все-таки обреченная на гибель…» А почему погибающая? Да именно потому, что слишком грубая и слишком здоровая, потому что она абсолютно не умеет жить с людьми. И сколько бы Тургенев в запальчивости ни говорил, что он разделяет все воззрения Базарова, кроме его взглядов на природу, собственно у Базарова никаких других-то воззрений и нет.
Вот эти 5 черт, присущих любому роману, написанному после 80-х годов XIX века, пожалуй, определяют европейскую прозу. Конечно, европейская проза знает свои эпосы, вроде «Семьи Тибо», но все-таки классический европейский роман воспитан Тургеневым – его ненавязчивостью, его барским холодноватым умением сказать все, не говоря почти ничего, его нежеланием направлять читателя на путь, нежеланием произносить мораль.
Считается, что тургеневская девушка – сильная и решительная девушка, противостоящая слабому мужчине. Первым этот вариант с присущей ему чуткостью зафиксировал Чернышевский. Мы все воспитаны в довольно странном убеждении, что Чернышевский не умел писать, понимал в экономике, но не понимал в литературе. Понимал, понимал лучше многих, и если уж правду говорить, то «Что делать?» – блистательная проза, очень насмешливая, очень точная, прекрасно построенная, шифрованная, интересная, увлекательная книга. Вокруг плохого романа такие бури не кипели бы. Лучшая критическая статья, написанная Чернышевским, – «Русский человек на rendez-vous». Он довольно точно и жестоко указал Тургеневу и указал всем на то, что русский мужчина по определению слаб. Это так не только в «Рудине», где ему противостоит Наталья, так не только в «Отцах и детях», где человек, поставивший все на карту женской любви, подвергается осмеянию, не только в «Вешних водах» и в «Асе», которую разбирает Чернышевский. Самое ужасное, что это так не только у Тургенева. Вспомните «Грозу», где единственной носительницей света является женщина, и Добролюбов пишет, что самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Почему так? Мужчина в России встроен в социальную иерархию, чего совершенно не желают понимать иностранные студенты. Они говорят: но ведь русская женщина была бесправна, о какой силе мы здесь можем говорить, ведь она даже не имела права участвовать в выборах? А остальные имели право участвовать в выборах? – хочется спросить. Она не имела права получать образование. Но самое главное, она не имела права на труд – и парадоксальным образом это делало ее гораздо более свободной, то есть она имела право на труд примитивный, крестьянский, но в высшие иерархии, в верхние этажи власти она не просто была не допущена, она не могла знать о них по-настоящему, она могла судить о них только по пересказу Каренина, который иногда ей что-то рассказывал, но ей все равно было неинтересно. Помните, как говорит одна из любимых толстовских героинь: «Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума; а как только я сказала: он глуп, но шепотом, – все так ясно стало». И Алексей Александрович действительно глуп, между нами говоря, потому что когда жизнь действительно его коснулась, – это не вопрос о переселенцах, это жена изменила, – он не сумел ничего противопоставить этому и постарался сделать вид, как будто ничего не произошло. И кстати, большинство российских государственников, когда что-то происходит, до последнего делают вид, что ничего не произошло, а потом с ними поступают, как с Алексеем Александровичем Карениным, но это не так важно. Важно здесь то, что русская женщина по определению выглядит сильной по отношению к мужчине именно потому, что она – по формуле Пушкина – может «для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи», она абсолютно выключена из социальной иерархии, а потому свободна. И потому она может себе все позволить, но эта свобода граничит с безответственностью, с произволом. Именно потому Писарев задается вопросом: да ну, какой же из Катерины луч света в темном царстве, когда она совершает поступки один абсурднее другого. Спросим себя, сильная тургеневская женщина – вызывает ли она хоть каплю авторской симпатии? Восхищение – да, но всегда издали, вчуже, с оттенком боязливости. Да, прав-то в романе Берсеньев, прав-то в романе Шубин, прав всегда человек, который нерешителен. Что, может быть, Ася была права? Да нет, конечно, герой, который спасовал перед ее напором в некотором смысле прав, он сохранил душу. Вообразите, что они поженились, поехали в Лондон, а она там в своей спонтанной манере влюбилась в Герцена – и что делать повествователю?
У Тургенева есть поразительные женские образы. Как раз и к вопросу об отношениях с матушкой: сильная, властная женщина у него выступает не только в образе барыньки. Это вам и прелестная купчиха Полозова из «Вешних вод», омерзительная, но прелестная, это вам и Елена из «Накануне». Это сейчас выражение «тургеневская девушка» приобрело смысл «кисейная барышня», на самом деле тургеневские женщины – это женщины из «Первой любви». Страстная, совершенно необузданная, знать не знающая никаких приличий и выбирающая борца или монстра – в то время как кроткий автор стоит в стороне. Она бывает довольно противна, но бывает и совершенно неотразима. И, конечно, идеальная абсолютно тургеневская женщина, лучшая – это Клара Милич. Я, собственно, детям, которые не любят Тургенева и вообще не хотят читать, подбрасываю, как правило, «Клару Милич» – повесть или, как я думаю, маленький, компактно написанный роман, лучшую вещь позднего Тургенева, которая может приохотить к триллерам даже того, кто этого не любит и не понимает. (Анна Ахматова говорила, что эта вещь очень провинциальна; при всей любви к Ахматовой, провинциальна как раз такая оценка, тем более, что под горячую руку ей попался и «Стук…Стук…Стук!..» – самый таинственный, умный и многозначный тургеневский рассказ о бессмертном типаже русского Наполеона). Самый страшный сон в русской литературе описан в «Кларе Милич». И самый очаровательный женский образ с ее решительными сербскими чертами, с ее черными глазами, взгляд которых даже неприятен, с черными волосами, с резкими, чувственными чертами лица, низким неожиданно и страстным голосом, и с этим ее «вот если я найду своего, то он будет мой – или я с собой покончу!». Вот вам, пожалуйста, идеальный женский образ. И она добилась же его действительно. Отравилась, а потом после смерти сделала все, что хотела. Он помер и ушел к ней, и никакой нет уверенности, что этому Яшеньке будет там хорошо.
Это тот женский образ, который нельзя не любить, потому что это образ жертвенный, – она гибнет все-таки, – и вместе с тем такой, которого нельзя не бояться. Тургеневская женщина, решительная, страстная, которая берет судьбу в свои руки, которая мужчин ломает об колено, которая как Россия, как княгиня Р. либо приближает, либо удаляет, – это взбалмошный типаж. Она, конечно, не та, что женщина Достоевского, у которой ко всему этому есть еще и просто откровенная истерия, откровенная патология и дикий какой-то совершенно разврат, вроде бы и унизительный, а вместе с тем доставляющий большое удовольствие. Это, конечно, не Настасья Филипповна. У Тургенева они все поздоровей. Но в них ведь главное не страстность, а властность. И лично мне это скорее симпатично.
Полозова, противопоставляемая Джемме, неслучайно носит змеиную фамилию и не зря у нее короткие толстые пальцы, которыми она вцепляется, впивается в шевелюру Санина. И не зря Клара Милич – истинная тургеневская женщина – похищает у человека душу и выступает грозной силой, почти загробной, не зря Елена в «Накануне» вызывает у автора чувства очень амбивалентные. И скорее некую чужеродность ощущает он по отношению к ней, а любимый-то герой, автопортрет – Шубин. Именно таким играл Шубина Любимов в свое время в Вахтанговском театре, самым обаятельным персонажем и в некотором смысле авторским альтер эго.
В самой прямой связи с этой темой находится ответ на роковой вопрос «Зачем Герасим утопил Муму?». Не будем забывать, что «Муму» – рассказ, написанный на съезжей, под арестом. Поводом для ареста тогда становилось все, что угодно. Время вообще типологически очень похожее на наше, с 1849 года примерно по 1855 год российская литературная жизнь замерла, это так называемое николаевское «мрачное семилетие». Но самое живое произведение в ней – «Муму». А живое оно потому, что оно носит глубоко автобиографический характер. За что Герасим утопил Муму – вопрос спорный, но за что посадили Тургенева, мы помним очень хорошо. Он написал некролог Гоголю, в котором осмелился намекнуть, что преждевременная кончина писателя имеет некоторую связь с внешними обстоятельствами его жизни: в частности, с политикой. Разумеется, Гоголя убило время, и упоминание об этом, само собой, не могло сойти автору с рук.
Самый пугливый, самый осторожный, самый послушный автор в русской литературе, который маменьку всю жизнь боялся ослушаться, – этот робкий человек умудрился сесть. Но, правда, Достоевский пострадал значительно серьезнее Тургенева, за чтение письма Белинского к Гоголю чуть было не расстреляли, потом заменили на восемь лет, а потом скостили до четырех. Ну, с Тургеневым как-то обошлось, он получил две недели, но острастка оказалась очень сильна. Потом мать его вызволила. Не очень понятно, за что Муму утоплена, но за что Тургенев сел, мы понимаем.
Вообще задавать этот вопрос школьникам, пятиклассникам – практически безнадежное дело. Большинство говорят, что Герасим не мог ослушаться барыню. Помилуйте, но он же все равно ослушался барыню, он же ушел.
Главная коллизия в творчестве Тургенева, что для любого делания, для любого подвига, для любого духовного роста или радикального перелома нужно прежде всего убить в себе то, что наиболее ценно.
И в тургеневской системе символов вот эта контрадикция души и поступка, души и действия очень отчетлива. По большому счету Тургенев – первый русский символист, и романы его по преимуществу символистские. И конечно, прав Сергей Александрович Соловьев говоря, что первый роман Серебряного века – это «Анна Каренина», но по-настоящему готовить символизм к рождению на русской почве начал еще Тургенев. Его система символов очень постоянна и очень прозрачна. Он откровенный, вообще говоря, писатель, невзирая на акварельность, туманность своих выводов. Надо просто научиться его читать.
Пара к «Муму», – конечно, «Собака», двойчатка, блистательный рассказ 1864 года. Это история о том, как у бывшего гусара, степного небогатого помещика завелось странное явление: как только он тушит свечу, у него под кроватью начинает рычать, стучать хвостом, трясти ушами собака. Вот она клацает зубами, вот она выкусывает блох, ну, слышно собаку. Он смотрит под кроватью – ничего, под кроватью дежурит – ничего, погасил свечи – начала чесаться. Хорошо, позвал слугу, слуга смотрит – ничего…
Иван Сергеевич Тургенев
Библиотека Всемирной Литературы
Проза И.С. Тургенева, пожалуй, самая изысканная в русской классической литературе, живописная, стилистически безупречная. Как психологически верны, живы его характеры, какими минимальными средствами писатель достигает такой невероятной художественной изобразительности. И вечный конфликт отцов и детей выписан блестяще. Как точно писатель чувствует историческую ситуацию, те тенденции, которые зреют в обществе. Не случайно романы И. Тургенева и в России и за рубежом воспринимались как художественный комментарий к русским революционным событиям пореформенной России.
В книгу включены знаменитые произведения И. Тургенева о любви, ведь «только любовью держится и движется жизнь», о лишнем человеке, а также мистические произведения писателя, не менее значимые для его творческого пути, но значительно менее растиражированные. Всеми важными открытиями Иван Тургенев щедро делится с читателем в своих произведениях.
Предваряет книгу вступительное слово Дмитрия Быкова, в основу которого положена лекция, прочитанная к 200-летию со дня рождения писателя, расшифрованная и подготовленная к изданию специально для этой книги. В ней представлен оригинальный взгляд на творчество Ивана Тургенева – самого европейского русского писателя XIX века.
Иван Тургенев
Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы
В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художников Витторио Маттео Коркоса, Сергея Виноградова и Николая Ге
© Быков Д.Л., вступительное слово, 2020
© ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Что завещал нам Тургенев
Лекция эта была прочитана в Тургеневской библиотеке к 200-летию писателя. Править ее я не стал, убрал только повторы и уточнил цитаты. Мне кажется, в прямом обращении к аудитории есть плюсы: можно без долгих мудрствований сказать о главном. Это тоже один из уроков Тургенева, всегда приступавшего к делу без долгих предисловий.
1
Случилось так, что ХХ век был веком Толстого, Достоевского и Чехова. Толстого и Достоевского, противостоящих друг другу по всем параметрам, а Чехова, как бы примиряющего их, хоть и несколько искусственно. Толстой убежден, что в основе всего – семья и вера, а без них человек беспомощен. Достоевский полагает, что ни семья, ни вера не спасут, а Бог открывается только в падении. Чехов говорит, что все вообще абсурдно и не следует об этом вести утомительные и бессмысленные русские споры, которые всегда на поверку оказываются спорами о черемше и чихиртме. Пойдите-ка лучше, как он говорил провинциальным учителям, когда они спрашивали его о смысле жизни, съешьте селянки и непременно с графинчиком.
Тургенев в русской литературе стоит наособицу. Я думаю, что сейчас, когда он вступает в третий век своего существования, когда мы недавно отметили его 200-летие, – наступает век Тургенева, век, когда скомпрометированы все ценности и наступает пора умного вчитывания, пора подтекстов, пора изящества, вообще пора тургеневских открытий. Тургенев, смею сказать, самый умный из всех русских писателей и самый воспитанный. Воспитанность начинает цениться. К Толстому смешно применять даже такое понятие: ураган не может быть хорошо воспитан. Достоевский – сплошная невоспитанность, которая действительно врывается в ваш дом и начинает задыхающимся шепотком говорить чрезвычайно неприятные вещи. Чехов, как говорил о нем Толстой, тихий как барышня, но этим своим тихим голосом тоже говорит чудовищные слова, ну например: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие».
А вот Тургенев – именно воспитанный человек. И думаю, что России скоро понадобятся ценности хорошего воспитания. Не зря говорили Стругацкие, что выше человека разумного стоит человек воспитанный, а вот как его воспитывать – никто еще не понял.
Не будет большим преувеличением сказать, что русская литература часто брала у Запада форму и насыщала ее своим содержанием, то есть в западную лайковую перчатку вставляла свой мосластый кулак. Форма толстовского главного произведения – «Войны и мира» – сама форма романа, где мясо авторских отступлений виснет на тоненьких ребрышках фабулы, почерпнута из «Отверженных», вплоть до бесчисленных лирических, философских и политических отступлений и рисования карты военных действий в вводной главе про Ватерлоо (у Толстого, соответственно, про Бородино). Толстой потому и ждал семь лет, придумав роман еще в 1856 году, что в 1862 вышли «Отверженные» – и сразу стало понятно, как организовывать необъятный материал. Правда, смысл толстовского романа совершенно противоположен. Гюго яростно доказывает, что один человек способен сделать мир моральнее, Толстой же, пользуясь повествовательной структурой Гюго, доказывает, что ни один человек, даже Наполеон, своей волей не может изменить в мире ничего, что действует равнодействующая миллионов воль (а Наполеона он презирает так же искренне, как Гюго его боготворил). Страшно представить, что случилось бы с Жаном Вольжаном под толстовским пером.
Точно так же глубокой зависимости от западных образцов – прежде всего от Диккенса, – не скрывает Достоевский. Мало того, что «Униженные и оскорбленные» – практически «Лавка древностей» и девочка Нелли взята даже без изменения имени. Но и диккенсовские чудаки наводняют его книги, и диккенсовская криминальная фабула, судебная драма в основе его произведений. Я уже не говорю о том, что Петербург Достоевского – в сущности Лондон Диккенса, буквально перенесенный в наши широты. Ведь все, кто бывал в летнем Петербурге, даже тогдашнем, описывают его как город светлый, прозрачный, созданный для рекреации, для державных трудов и радостного отдыха: острова, пленительная архитектура, державная мощь, изящество всего, воздушные мосты, невская перспектива. Вспомните хоть Петербург глазами Дюма, сказавшего, что приехать сюда стоило для одного того, чтобы взглянуть на решетку Летнего сада. Или Петербург глазами Льюиса Кэролла: «Чрезвычайная ширина улиц (даже второстепенные шире любой в Лондоне), крошечные дрожки, шмыгающие вокруг, явно не заботясь о безопасности прохожих <…>, огромные пестрые вывески над лавками, гигантские церкви с усыпанными золотыми звездами синими куполами, и диковинный говор местного люда – все приводило нас в изумление <…> [Город] настолько непохож на все, что мне доводилось видеть, что, кажется, я мог бы много дней подряд просто бродить по нему; <…> Невский с многочисленными прекрасными зданиями мы прошли весь <…> это, верно, одна из самых прекрасных улиц в мире; она оканчивается, возможно, самой большой площадью в мире, площадью Адмиралтейства; в ней не менее мили длины, причем Адмиралтейство занимает одну из ее сторон почти целиком». И сравните это со страшным зловонным городом, который описывает Достоевский. Вот уж подлинно Петербург глазами москвича, который вдобавок ненавидит все западное. Конечно, Петербург Достоевского навеян грязным, туманным Лондоном Диккенса. Ведь Петербург задумывался Петром, как город прорыва, как город светлый, в значительной степени жизнерадостный. Где мы найдем эту жизнерадостность у Достоевского, если даже летний Петербург полон у него каких-то ремонтных работ, там все время воняет и все живут в каморках, хотя в каморках жили только студенты вроде Раскольникова, да и те скорее всего воспринимали свою жизнь несколько более радостно?
Не скрывает своей преемственности с Байроном Пушкин, который находится с ним в отношениях литературного соперничества, несколько сложнее с Лермонтовым, но нетрудно догадаться, на кого ориентируется он. И более того, просто прямо пародирует. Жестокая пародия на «Фауста» содержится в «Сказке для детей», где рифма «профиль» и «Мефистофель» во второй раз появляется в русской литературе. Сначала все-таки у Пушкина: «Зачем твой дивный карандаш / Рисует мой арапский профиль? / Хоть ты векам его предашь, / Его освищет Мефистофель». Прямой пародией на «Страдания юного Вертера» является «Герой нашего времени», даже есть там свой Вертер, который отличается всего на одну букву, несчастный Вернер. Если юный Вертер жестоко страдает от любви, от оскорбленной любви, то Печорин в любви колоссально счастлив: так и падают сраженные им женщины, то Вера, то Мери, то Бэлла, которая сражена в буквальном смысле. Гете владеет воображением Лермонтова настолько, что он написал, наверное, самый известный перевод из Гете «Не пылит дорога, / Не дрожат листы… / Подожди немного, / Отдохнешь и ты», – тот самый знаменитый дуб, под которым было написано это стихотворение, стоял в центре Бухенвальда, что тоже, к сожалению, не случайно.
Так вот почти у каждого русского прозаика и поэта есть некий европейский прототип, на который они ориентируются. Даже у Чехова он есть, это не Мопассан, как думают многие, а Метерлинк, потому что вся чеховская драматургия – символистские драмы Метерлинка, очень аккуратно перенесенные в русские усадебные условия. Разговаривают они ровно как герои Метерлинка, но сидят при этом в разваливающемся поместье, на чем основан комический эффект чеховской драматургии, а «Люди, львы, орлы и куропатки» – это прямая пародия на символистскую драму. У всех есть прототип, и нет его только у Тургенева, потому что Тургенев – единственный русский писатель, который не учился у Запада, который сам смог повлиять на западную прозу. Достаточно сравнить роман во Франции до Тургенева и после появления его прозы. Тогдашний роман – классический роман-фельетон, рассчитанный на газетную публикацию, и надо вам сказать, что через эту болезнь пухлых огромных социальных романов с острыми фабулами прошли все, не только Дюма. Первые романы Золя, например, «Тереза Ракен», так же неумеренны, так же длинны, и в них так же много скандальных газетных подробностей. Это романы в газетной форме, романы, существующие за счет газетного подвала. Собственно Тургенев – человек финансово независимый, как раз и научил французскую литературу этой финансовой независимости, научил не зависеть от бумажного носителя.
Тургенев оказался в русской прозе в положении того единственного европейца, которым называл в свое время Пушкин наше правительство, но если в отношении правительства это сомнительно, то в отношении Тургенева, к сожалению, верно. Он оказался в позиции благовоспитанного мальчика, который пришел сказать какую-то свою правду в компанию очень талантливых и плохо воспитанных детей, причем небогатых, разновозрастных, шумливых. И, конечно, он оказался ими оттеснен. Но только в той среде, о которой мы с вами говорим, среде нашей, родной, российской. Тогда как, например, в Европе современники были от него в восторге. Флобер ставил его значительно выше Толстого, которого упрекнул в одном из писем в том, что тот слишком повторяется и слишком философствует – к сожалению, и то и другое верно, хотя ничуть Толстому не вредит. Мопассан считал Тургенева не только изобретателем слова «нигилизм», что было, наверное, его главной литературной заслугой в России, но и, безусловно, первым из европейских мастеров саспенса, один из устных рассказов Тургенева лег в основу мопассановской новеллы «Страх», а из «Муму» сделана «Мадемуазель Кокотка» – увы, несколько испорченная в мопассановском пересказе.
Тургенев вообще любил наговаривать рассказы по-французски. Он говорил: «По-французски я не думаю о стиле». Вот и последний его рассказ за три дня до смерти надик-тован по-французски. Европа Тургенева ценила и правильно делала. Из Тургенева в Европе выросли многие, вышли, как из гоголевской «Шинели». Европейский идеологический роман, каким мы знаем его, – короткий, насыщенный диалогами, лишенный однозначной позиции (как романы Гюисманса, например, или Дюамеля, или Жида, а Гончаров в раздражении писал даже о «тургеневско-флоберовском» жанре) – вырос вовсе не из толстовской традиции, которая сама в свою очередь восходит к бурному и неправильному роману Гюго, а вырос из родного Тургенева. Тургенев популярен в Англии, его любит Германия – в общем, он обладает безоговорочным авторитетом на Западе, а для нас же с вами он подозрительно благовоспитан. Не говоря уже о том, что о морали тургеневского романа мы, как правило, не можем судить однозначно. Нам совершенно непонятно, для чего нам это все так хорошо рассказано и на чьей же стороне автор. Знаменитая двойственность тургеневской позиции, выбор между человеком сильным, но жестоким и человеком рефлексирующим, умным, но бесполезным наиболее наглядно обозначены в его саморазоблачительной статье «Гамлет и Дон Кихот», где все симпатии автора формально на стороне Дон Кихота, а любовь на стороне Гамлета.
2
Тургеневский роман отличался теми пятью чертами, которые я из года в год повторяю школьникам, и эти пять черт сформировали европейскую беллетристику, как мы ее знаем. Прежде всего – это роман короткий. Лучшим, внимательнейшим учеником Тургенева был, конечно, Мопассан. Самый тургеневский и, наверное, самый совершенный роман Мопассана «Монт-Ориоль», в котором все черты тургеневского романа присутствуют, наглядно все это иллюстрирует. Краткость необходима для того, чтобы, во-первых, читателя не утомлять, чтобы во-вторых, соблюсти пропорции, потому что многостраничные романы Достоевского, гигантский эпос Толстого – в общем, созданы для русского неумеренного пространства, а европейский роман, который компактен, полностью соответствует очень точной формуле Василия Розанова – русский синтаксис, русское предложение так бесконечны потому, что бесконечно тянется русская равнина, русские собеседники в поезде могут говорить ночами, а французские собеседники должны уложиться в час, пока проедешь Францию из конца в конец – успеешь рассказать ровно то, что нужно. Тогда как для русского человека это только повод, чтобы начать: «Ну-с, милостивый государь, и история же со мной приключилась». И дальше еще пять страниц предисловия.
Тургенев не любит долгой экспозиции, его роман изящен, лаконичен и, в общем, абсолютно независим от той формы, в которой он будет подаваться, скажем, от журнальной книжки. Тургеневский роман обладает всеми пропорциями идеального рассказа и, разумеется, масштабной, истинно романной проблематикой.
Вторая особенность тургеневского романа – его полифоничность. Принято считать, с легкой руки Бахтина, что полифоничность в русской литературе олицетворяет Достоевский. У Достоевского, который, как мы знаем, предпочитал диктовать свои поздние сочинения, мы все время слышим этот яростный шепоток, больше того – мы слышим не только его интонацию, с которой разговаривают все его герои, бог с ними, мы слышим, когда он останавливается отхлебнуть своего знаменитого черного крепчайшего чая или закурить египетскую папиросу (20 набитых им на следующую диктовку папирос так и лежат в Музее-квартире Достоевского). Мы знаем, когда он делает паузы, когда он набирается духу, мы все время слышим его голос, говорящий читателю «туда не ходи, сюда ходи». Если отрицательный герой, так уж он непременно красавец, если положительный, так внешность у него не авантажная и голос сиплый, и, разумеется, все подпольные авторские комплексы перенесены на героев во всей великолепной полноте. Где же здесь полифония, когда мы всегда понимаем, какова любимая авторская идея, а иногда, как в финале «Подростка», он в письме одного из посторонних персонажей прямо появляется для того, чтобы произнести мораль? А вот у Тургенева мы никогда не знаем, на чьей стороне автор. Больше того, Тургенев задолго до Леонида Леонова (Леонов поделился этой мыслью с Чуковским, она зафиксирована в дневнике) освоил главную заповедь русского писателя: заветные мысли надо отдавать отрицательному герою, тогда вы будете неуязвимы. Например, Потугину отданы заветные авторские мысли, а Потугин не то, чтобы отрицательный, но сомнительный персонаж, ненадежный моралист, а мысль заветная, тургеневская – если бы мы исчезли, мы не оставили бы по себе даже английской булавки. Другое дело, что это не единственная мысль. Настроение у Тургенева меняется, и иногда он ненавидит Европу и ее пошлость, а иногда он влюблен в ее дух. Но факт остается фактом – мы никогда не знаем, на чьей стороне Тургенев. Мы не знаем, за кем будущее.
То есть мораль тургеневского романа, как правило, нельзя выразить словами, она возникает на пересечении многих лучей, перекрестье многих вариантов, она сама по себе никогда не преподносится, она формулируется нами, и мы никогда не можем быть уверены в том, что правильно прочли роман. Например, «Новь», например, «Дым», наверное, самый сложный для трактовки из всех тургеневский романов. Роман, рассказывающий о том, что все дым и дым, и в русской политике, и в русском искусстве, и в русской жизни. Все дым, кроме Татьяны, которая по сравнению с Ириной такая простая, такая неинтересная, но если ты хочешь прожить нормальную жизнь, то беги от Ирины, – что, собственно, Тургенев и сделал в смысле географическом, потому что Ирина, вообще сильная женщина, олицетворяющая у него, как правило, Россию, для героя становится источником гибели. Или во всяком случае гибели духовной. Не случайно возлюбленная Павла Петровича, она же Сфинкс, называется именно княгиней Р. По этому инициалу мы опознаем в ней Россию безошибочно. Она умнее, чем кажется, она не знает, чего она хочет, и она то приманивает, то отталкивает влюбленных в нее: она не знает, что с ними делать. То, что Фенечка так на нее похожа, тоже довольно важный знак. Почему же, собственно, Николай Петрович – главный и любимый герой этого странного романа? Почему именно ему достается все? И о чем, собственно говоря, написан этот роман – главный предшественник русского идейного романа вроде «Бесов», вроде «Что делать?» и им подобных. Я полагаю, причина, которая заставила Тургенева писать эту книгу, была для 1859–1861 годов, когда роман пишется и печатается, достаточно актуальна. Тогда еще не было понятно, насколько эта русская матрица точно самовоспроизводится. Сейчас даже те политологи, которые никак не желали мириться с ее существованием – ну, например, Швецова – уже пишут в «Новой газете» открытым текстом, что эта матрица существует и мы пока из нее не выпрыгнули.
Я помню, когда мне приходилось эту четырехтактную схему излагать, много лет тому назад, когда впервые печатались «ЖД», это вызывало постоянные упреки в механицизме, в фатализме, в других каких-то вещах, в словах, которых я не знаю просто. Но сейчас уже очевидно: русский исторический цикл устроен так, что примерно раз в поколение колесо проворачивается на четверть. И в процессе этого поворота образуется та самая коллизия, о которой впервые сказал Лермонтов – очень любимый, кстати говоря, Тургеневым и герой его прекрасного мемуарного очерка. Лермонтов сказал об этом:
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит язвительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Коллизия отцов и детей впервые обозначена здесь. Все русские отцы обречены вступать в жесточайший идейный спор со своими русскими детьми. Не бывает так, чтобы осуществлялась преемственность, всегда щелкает это колесо. Я не знаю, что надо делать, чтобы совпадать со своим сыном идеологически…
Тот факт, что каждый отец с каждым сыном оказываются даже не в противофазе, как уже было сказано, а вот под этим страшным девяностоградусным углом без элементарного взаимопонимания, он для всей русской литературы абсолютно очевиден только с того момента, как об этом Тургенев написал роман «Отцы и дети». Потому что весь пафос, весь смысл этого романа сводится к одному: господа, если вы не научитесь путем элементарной, старомодной, сентиментальной человечности преодолевать неизбежные разломы русской матрицы, вы обречены лежать на тихом кладбище, и лопух из вас будет расти. Вы обречены исторически.
И отсюда – третья черта тургеневских романов: они актуальны, и это позволяет им быть вечными. В России, если хочешь быть актуальным для всех поколений, к сожалению, надо тесно быть привязанным к той реальности, которую описываешь. Иной романист думает, что надо говорить о вечном. В России нет ничего более вечного, чем преходящее, потому что все повторяется, все перещелкивается каждые 25 лет. Каждые отцы оказываются в оппозиции к поколению детей, каждое следующее поколение, шестидесятники к девяностникам, девяностники к нулевикам, оказываются в перепендикуляре. И Тургенев оказывается прав применительно ко всем эпохам.
«Новь» можно читать сегодня как абсолютно актуальное произведение, только Соломиным уже нет никакой веры и понимаем мы, что Марианна никакого моря не зажжет, но в целом мало что изменилось. Самое удивительное в Тургеневе – то, что за счет поразительно точной привязки к эпохе он сохраняет свое совершенно партизанское действие, он наш подпольный союзник. Читаем ли мы у него о губернаторе-реформаторе, который умеет только хамить подчиненным, – помните, в «Отцах и детях» этот молодой губернатор, типичный назначенец конца 50-х, который приехал в провальный регион, думая, что он здесь и сейчас проведет реформы. Тургенев к реформам относился гораздо насмешливее, чем к консерватизму, потому что, как говорил Писарев в письме о «Дыме»: «Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками». Вот почему ненависть Тургенева к реформаторам сильнее его ненависти к консерваторам: консерваторы, бог бы с ними, они ни на что не претендуют. Но вот эта мучительная актуальность любого тургеневского романа покупается бесконечной вдумчивостью, бесконечной внимательностью во вглядывании в современность. И конечно, чем дальше, тем виднее удаленность Тургенева от России, которая приводила к тому, что он видел происходящее в России незамутненно.
Четвертая важная черта тургеневских романов, которая в западном романе оказалась на первом плане, – отсутствие сюжета, то есть, строго говоря, фабулы. В чем фабула «Отцов и детей»? Два друга-студента ездят в гости из одного поместья в другое? К сожалению, это тоже осталось важной чертой русской жизни, русская жизнь бесфабульна, в ней мало, что происходит, но в подспудном ее течении всегда зреют великие события. И нет никаких сомнений в том, что изящество, скажем, французской прозы во многом, изящество нового романа, который связан уже с 50–60-ми годами прошлого века – тургеневское завоевание. «Прошлым летом в Мариенбаде» – абсолютно тургеневский роман, когда мы вообще не знаем, что происходит и происходит ли. Когда автор транслирует тончайшие настроения и рассказывает о них тончайшими намеками, грубых мазков масляной кистью мы не найдем у Тургенева нигде. Иногда в его романах, ну как, например, в «Накануне», происходит, конечно, некоторое сюжетное движение, но как раз с сильными героями, которые производят это сильное движение, у Тургенева наблюдается довольно последовательный антагонизм. Тургеневу сильный герой неприятен, но об этом поговорим отдельно, когда коснемся «Муму».
Наконец, пятая черта тургеневского романа, которая делает его таким привлекательным для читателя: я в детстве, когда болел, все время перечитывал Тургенева. Тургеневский роман насмешлив, ироничен. Сатира – абсолютно органичная для него черта. Невозможно с абсолютной серьезностью воспринимать абсурд политической жизни, тысячу раз переспоренные споры, претенциозность всякой нови и тупое самодовольство старины: Тургенев насмешлив, как умный и многое повидавший наблюдатель, который и себя не щадит. «Мы самих себя изучаем с большим прилежанием и воображаем потом, что знаем людей», – как говорит Наталья Петровна в «Месяце в деревне», – но другого способа понимать людей не придумано.
Важно и то, что всякий тургеневский роман автобиографичен. В нем всегда, хотя и в очень искаженном виде, но всегда узнаваемо, изложены те самые коллизии, те самые глубокие внутренние борения, которые в этот момент владеют Тургеневым. И это позволяет нам понять, кто же протагонист в «Отцах и детях», кто тот главный герой, вокруг которого все вертится. Мы уже привыкли, что протагонист Тургенева, герой, в котором мы можем его узнать, – это человек слабый, романтический, сентиментальный. Человек, который всю жизнь завидует людям действия и комплексует перед ними. Человек добрый, утонченный, отчасти, конечно, эгоистичный, как сам Тургенев, но при этом беззаветно любящий искусство и свое ремесло, да к тому же очень сильно переживающий из-за того, что у него есть незаконный ребенок от крепостной крестьянки. Это тургеневская автобиографическая коллизия.
Тургенев аккуратно спрятан в Николая Петровича Кирсанова, потому что и его собственная незаконная дочь от крестьянки долгое время как «терпеливая умница», ласточка в чужом гнезде, как сказано в одном стихотворении в прозе, жила в чужом доме. И этот вечный грех у него всегда на совести. И история с Фенечкой всегда на его памяти. И уж, конечно, ситуация, в которой именно Николаю Петровичу достается в романе все хорошее, тоже подстроена Тургеневым не без тайного умысла. Ведь единственный моральный победитель в романе – это Николай Петрович. Павел Петрович уехал за границу, он абсолютно выжжен, у него нет никаких перспектив. Базаров умер от пореза пальца. Аркадий Николаевич «в галки попал», выгодно женился, хотя и по любви, но по любви глупой, без приключений, без всякой романтики. Одинцова, тоже одна из любимых тургеневских героинь, замужем без любви, – «но, может быть, доживутся до любви». Один Николай Петрович получает в свое распоряжение Фенечку, Митеньку, прекрасное село, в котором все идет не как надо, и Базаров-то приезжает и говорит: «Как нерационально все устроено!» Тем не менее эта нерациональность и есть залог жизненности. Кто главный приобретатель в «Отцах и детях»? Кому больше всех повезло? Николаю Петровичу, конечно: его любит Фенечка, так похожая на княгиню Р., у него сын, у него имение, которое по всем моральным и экономическим соображениям давно бы должно было рассыпаться. Но это если подойти к делу с позиций рациональных базаровских, если почитать «Стофф унд крафт». А если не читать «Материю и силу», тогда все и выходит; все держится на честном слове, но держится. Более того, любимые черты Тургенева приданы Николаю Петровичу, pater familias в глубине русской губернии играет на виолончели. А что еще можно делать в глубине Курской губернии?
Это и есть ответ Тургенева, он награждает бонусами самого незаметного и в каком-то смысле самого неавантажного героя, он вообще почти ничего не произносит, никаких максим, но он прав, и он лучше своего брата с его бристольскими картонными воротничками. Он лучше Базарова, который гибнет. Почему гибнет Базаров? Базаров гибнет не от пореза пальца. Вот эта удивительная, кстати, история, когда Писарев, прочитавши «Дым», в частном письме Тургеневу пишет: «Куда вы девали Базарова? Неужели вы действительно полагаете, что первый и последний Базаров умер от пореза пальца?» Ну, разумеется, он умер не от этого, он умер от того, что он не вписался в жизнь, что у него нет навыков вписываться в жизнь, вставлять себя, вглаживать, каким-то образом врастать… «Мне мечталась, – говорит Тургенев (все замучились повторять эту несчастную цитату), – фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – все-таки обреченная на гибель…» А почему погибающая? Да именно потому, что слишком грубая и слишком здоровая, потому что она абсолютно не умеет жить с людьми. И сколько бы Тургенев в запальчивости ни говорил, что он разделяет все воззрения Базарова, кроме его взглядов на природу, собственно у Базарова никаких других-то воззрений и нет.
Вот эти 5 черт, присущих любому роману, написанному после 80-х годов XIX века, пожалуй, определяют европейскую прозу. Конечно, европейская проза знает свои эпосы, вроде «Семьи Тибо», но все-таки классический европейский роман воспитан Тургеневым – его ненавязчивостью, его барским холодноватым умением сказать все, не говоря почти ничего, его нежеланием направлять читателя на путь, нежеланием произносить мораль.
Считается, что тургеневская девушка – сильная и решительная девушка, противостоящая слабому мужчине. Первым этот вариант с присущей ему чуткостью зафиксировал Чернышевский. Мы все воспитаны в довольно странном убеждении, что Чернышевский не умел писать, понимал в экономике, но не понимал в литературе. Понимал, понимал лучше многих, и если уж правду говорить, то «Что делать?» – блистательная проза, очень насмешливая, очень точная, прекрасно построенная, шифрованная, интересная, увлекательная книга. Вокруг плохого романа такие бури не кипели бы. Лучшая критическая статья, написанная Чернышевским, – «Русский человек на rendez-vous». Он довольно точно и жестоко указал Тургеневу и указал всем на то, что русский мужчина по определению слаб. Это так не только в «Рудине», где ему противостоит Наталья, так не только в «Отцах и детях», где человек, поставивший все на карту женской любви, подвергается осмеянию, не только в «Вешних водах» и в «Асе», которую разбирает Чернышевский. Самое ужасное, что это так не только у Тургенева. Вспомните «Грозу», где единственной носительницей света является женщина, и Добролюбов пишет, что самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Почему так? Мужчина в России встроен в социальную иерархию, чего совершенно не желают понимать иностранные студенты. Они говорят: но ведь русская женщина была бесправна, о какой силе мы здесь можем говорить, ведь она даже не имела права участвовать в выборах? А остальные имели право участвовать в выборах? – хочется спросить. Она не имела права получать образование. Но самое главное, она не имела права на труд – и парадоксальным образом это делало ее гораздо более свободной, то есть она имела право на труд примитивный, крестьянский, но в высшие иерархии, в верхние этажи власти она не просто была не допущена, она не могла знать о них по-настоящему, она могла судить о них только по пересказу Каренина, который иногда ей что-то рассказывал, но ей все равно было неинтересно. Помните, как говорит одна из любимых толстовских героинь: «Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума; а как только я сказала: он глуп, но шепотом, – все так ясно стало». И Алексей Александрович действительно глуп, между нами говоря, потому что когда жизнь действительно его коснулась, – это не вопрос о переселенцах, это жена изменила, – он не сумел ничего противопоставить этому и постарался сделать вид, как будто ничего не произошло. И кстати, большинство российских государственников, когда что-то происходит, до последнего делают вид, что ничего не произошло, а потом с ними поступают, как с Алексеем Александровичем Карениным, но это не так важно. Важно здесь то, что русская женщина по определению выглядит сильной по отношению к мужчине именно потому, что она – по формуле Пушкина – может «для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи», она абсолютно выключена из социальной иерархии, а потому свободна. И потому она может себе все позволить, но эта свобода граничит с безответственностью, с произволом. Именно потому Писарев задается вопросом: да ну, какой же из Катерины луч света в темном царстве, когда она совершает поступки один абсурднее другого. Спросим себя, сильная тургеневская женщина – вызывает ли она хоть каплю авторской симпатии? Восхищение – да, но всегда издали, вчуже, с оттенком боязливости. Да, прав-то в романе Берсеньев, прав-то в романе Шубин, прав всегда человек, который нерешителен. Что, может быть, Ася была права? Да нет, конечно, герой, который спасовал перед ее напором в некотором смысле прав, он сохранил душу. Вообразите, что они поженились, поехали в Лондон, а она там в своей спонтанной манере влюбилась в Герцена – и что делать повествователю?
У Тургенева есть поразительные женские образы. Как раз и к вопросу об отношениях с матушкой: сильная, властная женщина у него выступает не только в образе барыньки. Это вам и прелестная купчиха Полозова из «Вешних вод», омерзительная, но прелестная, это вам и Елена из «Накануне». Это сейчас выражение «тургеневская девушка» приобрело смысл «кисейная барышня», на самом деле тургеневские женщины – это женщины из «Первой любви». Страстная, совершенно необузданная, знать не знающая никаких приличий и выбирающая борца или монстра – в то время как кроткий автор стоит в стороне. Она бывает довольно противна, но бывает и совершенно неотразима. И, конечно, идеальная абсолютно тургеневская женщина, лучшая – это Клара Милич. Я, собственно, детям, которые не любят Тургенева и вообще не хотят читать, подбрасываю, как правило, «Клару Милич» – повесть или, как я думаю, маленький, компактно написанный роман, лучшую вещь позднего Тургенева, которая может приохотить к триллерам даже того, кто этого не любит и не понимает. (Анна Ахматова говорила, что эта вещь очень провинциальна; при всей любви к Ахматовой, провинциальна как раз такая оценка, тем более, что под горячую руку ей попался и «Стук…Стук…Стук!..» – самый таинственный, умный и многозначный тургеневский рассказ о бессмертном типаже русского Наполеона). Самый страшный сон в русской литературе описан в «Кларе Милич». И самый очаровательный женский образ с ее решительными сербскими чертами, с ее черными глазами, взгляд которых даже неприятен, с черными волосами, с резкими, чувственными чертами лица, низким неожиданно и страстным голосом, и с этим ее «вот если я найду своего, то он будет мой – или я с собой покончу!». Вот вам, пожалуйста, идеальный женский образ. И она добилась же его действительно. Отравилась, а потом после смерти сделала все, что хотела. Он помер и ушел к ней, и никакой нет уверенности, что этому Яшеньке будет там хорошо.
Это тот женский образ, который нельзя не любить, потому что это образ жертвенный, – она гибнет все-таки, – и вместе с тем такой, которого нельзя не бояться. Тургеневская женщина, решительная, страстная, которая берет судьбу в свои руки, которая мужчин ломает об колено, которая как Россия, как княгиня Р. либо приближает, либо удаляет, – это взбалмошный типаж. Она, конечно, не та, что женщина Достоевского, у которой ко всему этому есть еще и просто откровенная истерия, откровенная патология и дикий какой-то совершенно разврат, вроде бы и унизительный, а вместе с тем доставляющий большое удовольствие. Это, конечно, не Настасья Филипповна. У Тургенева они все поздоровей. Но в них ведь главное не страстность, а властность. И лично мне это скорее симпатично.
Полозова, противопоставляемая Джемме, неслучайно носит змеиную фамилию и не зря у нее короткие толстые пальцы, которыми она вцепляется, впивается в шевелюру Санина. И не зря Клара Милич – истинная тургеневская женщина – похищает у человека душу и выступает грозной силой, почти загробной, не зря Елена в «Накануне» вызывает у автора чувства очень амбивалентные. И скорее некую чужеродность ощущает он по отношению к ней, а любимый-то герой, автопортрет – Шубин. Именно таким играл Шубина Любимов в свое время в Вахтанговском театре, самым обаятельным персонажем и в некотором смысле авторским альтер эго.
В самой прямой связи с этой темой находится ответ на роковой вопрос «Зачем Герасим утопил Муму?». Не будем забывать, что «Муму» – рассказ, написанный на съезжей, под арестом. Поводом для ареста тогда становилось все, что угодно. Время вообще типологически очень похожее на наше, с 1849 года примерно по 1855 год российская литературная жизнь замерла, это так называемое николаевское «мрачное семилетие». Но самое живое произведение в ней – «Муму». А живое оно потому, что оно носит глубоко автобиографический характер. За что Герасим утопил Муму – вопрос спорный, но за что посадили Тургенева, мы помним очень хорошо. Он написал некролог Гоголю, в котором осмелился намекнуть, что преждевременная кончина писателя имеет некоторую связь с внешними обстоятельствами его жизни: в частности, с политикой. Разумеется, Гоголя убило время, и упоминание об этом, само собой, не могло сойти автору с рук.
Самый пугливый, самый осторожный, самый послушный автор в русской литературе, который маменьку всю жизнь боялся ослушаться, – этот робкий человек умудрился сесть. Но, правда, Достоевский пострадал значительно серьезнее Тургенева, за чтение письма Белинского к Гоголю чуть было не расстреляли, потом заменили на восемь лет, а потом скостили до четырех. Ну, с Тургеневым как-то обошлось, он получил две недели, но острастка оказалась очень сильна. Потом мать его вызволила. Не очень понятно, за что Муму утоплена, но за что Тургенев сел, мы понимаем.
Вообще задавать этот вопрос школьникам, пятиклассникам – практически безнадежное дело. Большинство говорят, что Герасим не мог ослушаться барыню. Помилуйте, но он же все равно ослушался барыню, он же ушел.
Главная коллизия в творчестве Тургенева, что для любого делания, для любого подвига, для любого духовного роста или радикального перелома нужно прежде всего убить в себе то, что наиболее ценно.
И в тургеневской системе символов вот эта контрадикция души и поступка, души и действия очень отчетлива. По большому счету Тургенев – первый русский символист, и романы его по преимуществу символистские. И конечно, прав Сергей Александрович Соловьев говоря, что первый роман Серебряного века – это «Анна Каренина», но по-настоящему готовить символизм к рождению на русской почве начал еще Тургенев. Его система символов очень постоянна и очень прозрачна. Он откровенный, вообще говоря, писатель, невзирая на акварельность, туманность своих выводов. Надо просто научиться его читать.
Пара к «Муму», – конечно, «Собака», двойчатка, блистательный рассказ 1864 года. Это история о том, как у бывшего гусара, степного небогатого помещика завелось странное явление: как только он тушит свечу, у него под кроватью начинает рычать, стучать хвостом, трясти ушами собака. Вот она клацает зубами, вот она выкусывает блох, ну, слышно собаку. Он смотрит под кроватью – ничего, под кроватью дежурит – ничего, погасил свечи – начала чесаться. Хорошо, позвал слугу, слуга смотрит – ничего…