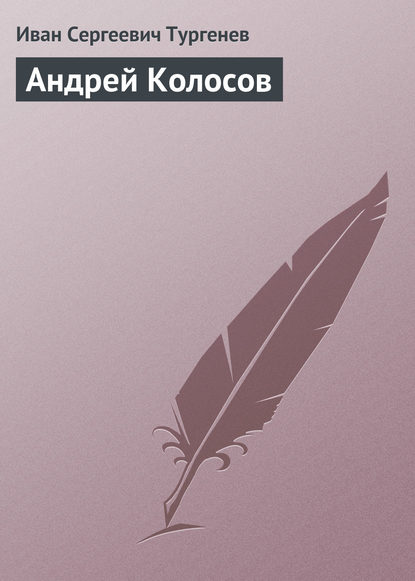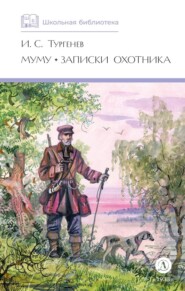По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Андрей Колосов
Автор
Год написания книги
1844
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Андрей Колосов
Иван Сергеевич Тургенев
Повестью «Андрей Колосов» Тургенев не только сводил счеты с собственным юношеским романтизмом и восторженной мечтательностью; он включался и в общую борьбу с обветшалыми, но еще живучими романтическими традициями. Естественно, что новая, хотя во многом еще и незрелая, повесть Тургенева вызвала одобрение Белинского: «„Андрей Колосов“ г. Т. Л. – рассказ чрезвычайно замечательный по прекрасной мысли: автор обнаружил в нем много ума и таланта, а вместе с тем и показал, что он не хотел сделать и половины того, что бы мог сделать, оттого и вышел хорошенький рассказ там, где следовало выйти прекрасной повести».
Иван Сергеевич Тургенев
Андрей Колосов
В небольшой порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:
– Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?
Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.
– Так что ж нам, по-твоему, делать? – сказал один из нас, – играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?
– Приятно играть в карты и полезно спать, – возразил небольшой человечек, – а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.
Мы задумались.
– Странное дело, – заметил один из нас, большой шутник, – кроме самого себя, я не знаю ни одного необыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете…
– Нет, – воскликнул другой, – не нужно! Да что, – прибавил он, обращаясь к небольшому человечку, – начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.
– Пожалуй, – отвечал тот.
Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:
– Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольное количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня насмерть.
– К делу, к делу, – закричали мы. – Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?
– Нет, господа! – возразил спокойно небольшой человечек, – я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его… знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то… Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор – за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций,[1 - …пачки синих полинялых ассигнаций – бумажных денег пятирублевого достоинства. Ассигнации были введены в России в 1769 г. и находились в обращении до 1843 г., когда в результате реформы министра финансов графа Е. Ф. Канкрина они были заменены кредитными билетами. По официальному курсу, существовавшему в 1830-е годы, один рубль ассигнациями равнялся 27 коп. серебром.] а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники… что я говорю – у меня! даже у моей куцей собаки Армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого, внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало: я чувствовал свое одиночество, жаждал сообщения с так называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: жызнь) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку… Валерьян Никитич, пожалуйте мне пахитос.
Закурив пахитос,[2 - Закурив пахитос… – Пахитос пли, чаще, пахитоска (от испанского pajitos – соломинки) – тонкая папироса.] небольшой человечек продолжал:
– В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: «Знаешь, брат, великую новость? Колосов приехал». – «Колосов? что за птица господин Колосов?» – «Ты его не знаешь? Андрюшу Колосова? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером вернулся с кондиции».[3 - Он вчера вечером вернулся с кондиции. – Слово кондиция (от латинского conditio) в значении: условие, договор – употреблялось в русском языке еще в XVIII в. Выделив это слово курсивом, Тургенев отметил, что новое его значение – домашние уроки, репетиторские занятия в частных домах, – сложившееся в семинарской среде, а затем перешедшее в студенческий обиход, еще не вошло в общелитературный язык и ощущалось как жаргонное. О случаях употребления писателем этого слова см. заметку Т. А. Никоновой: Т сб, вып. 3, с. 175. Ср. у Гоголя в «Вие» (1835): «Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, a иногда и на сюртук» (курсив Гоголя).] – «Да кто он такой?» – «Необыкновенный, братец, человек, помилуй!» – «Необыкновенный человек, – промолвил я, – ступай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!..» – «Э, нет! Колосов не такой». Я было хотел заметить Бобову, что господину Колосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы… Дом, в котором жил Колосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли на двор; толстая баба развешивала белье на веревочки, протянутые от дома к забору… дети перекрикивались на деревянной лестнице…
– К делу! к делу! – возопили мы.
– Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного.[4 - Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. – В этом ироническом замечании термины «приятное» и «полезное» употреблены в том смысле, какой им придавала почти до середины XIX века школьная «теория словесности», не выходившая за пределы архаических традиций классицизма. Согласно поэтике классицизма «приятное» заключалось обыкновенно в живых описаниях предметов; «полезное» выражалось в повествовании о мыслях и поступках людей, которые своим примером должны были поучать читателей (см., например: Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1, с. 109–110 и 472–473).] Пожалуй! Через темный и узкий проход добрались мы до комнаты Колосова; вошли. Вы, вероятно, имеете приблизительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комоде сидел Колосов и курил трубку. Он дружески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Колосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Колосов был действительно необыкновенный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подробнее… Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо… Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо! Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно этого лица?
– То, что Байрон называет: «the music of the face»[1 - «музыка лица» (англ.).],[5 - То, что Байрон называет «the music of the face»… – В поэме «Абидосская невеста» Байрон, описывая красоту Зюлейки, говорит: «the Music breathing from her face» («музыкой веяло от ее лица» – «Bride of Abydos», Canto 1, 179). К этой строке поэт счел необходимым дать примечание, в котором указывал, что это выражение «находили странным», и защищал его правомерность. При этом он ссылался на мнение m-me де Сталь, которая в своей книге «О Германии» писала о возможности сближения музыки и живописи: «…мы сравниваем живопись с музыкой и музыку с живописью, потому что чувства, которые мы испытываем, обнаруживают сходство там, где холодное наблюдение ее видит ничего, кроме различия» (De l’Allemagne, par M-me la baronne de Staёl-Holstein. Tome troisi?me. Paris – Londres, 1813, p. 142).] – заметил один перетянутый и бледный господин.
– Так-с… А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке, чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попадье, пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и российскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников;[6 - …y нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников… – Белинский в своих статьях и рецензиях неоднократно язвительно высмеивал подобные руководства. Так, в 1844 г. он писал: «Нет ничего гибельнее для способностей учащихся молодых людей, как краткие руководства, которые ничего не говорят ни рассудку, ни воображению, а должны усвояться только памятью» (Белинский, т. 8, с. 225; см. также т. 9, с. 273).] а во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Колосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Колосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Колосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам: веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно – эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа, – я понимаю вашу улыбку; точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость… молодость…
Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory…[2 - О, не говорите мне о славном имени!Дни нашей молодости – дни нашей славы…][7 - On talk not to me ~ of our glory… – Начальное двустишие из стихотворения Байрона «Стансы, написанные на пути между Флоренцией и Пизой» («Stanzas written on the road between Florence and Pisa», 1821).] —
промолвил тот же бледный господин…
– Фу ты, чёрт, какая у вас память! и всё из Байрона! – заметил рассказчик. – Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И между тем мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь – именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например, ревность. Колосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого, белокурого и смирного малого по имени Гаврилова. С этим Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешёптывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три… Колосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Колосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог, объяснить себе причину странных отлучек Колосова. Между тем в нем не было ни той таинственности, которою щеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая, стремительная деятельность; только он не тратил своей силы по-пустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа… скажите правду: не случалось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Колосове эти невольные, страстные порывы. Недаром говорят, что любовь проницательна. Я решился – во что бы то ни стало – втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Колосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности… но, к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Колосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы – и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова. В течение целой зимы мои отношения к Колосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с Гавриловым – и не мог понять, чем он лучше меня… Но вдруг всё переменилось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину. Я тоже искренно сожалел о нем, но сердце во мне замирало, ждало чего-то…
В один незабвенный вечер… я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок… кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня «Я пришел к тебе, – начал он довольно глухим голосом, – потому что ты более всех других меня любишь… Я потерял своего лучшего друга, – голос его слегка задрожал, – и чувствую себя одиноким… Вы все не знали Гаврилова… вы не знали…» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне… «Хочешь ли ты заменить мне его?» – сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула… Я не знал, что сказать, я задыхался… Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь – и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться – не похвастаться своим счастием. Пробило восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать… и молча сел на стул. Я взял его за руку «Колосов! право, право, я заслуживаю твою доверенность!» Он взглянул мне прямо в глаза. «Ну, если так, – промолвил он, наконец, – бери шапку, пойдем». – «Куда?» – «Гаврилов меня не спрашивал». Я тотчас же замолчал. «Ты умеешь играть в карты?» – «Умею». Мы вышли, взяли извозчика к …ой заставе. У заставы мы слезли. Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо – в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми парами. Я шел молча за Колосовым Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме, – продолжал Колосов, – живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой девой – и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника – ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я умел молчать не хуже Гаврилова… Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки… Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли, в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» – спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» – раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замасленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы… «Хорош гусь!» – подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич, – промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку, – давненько! А где Севастьян Севастьянович?» – «Гаврилов умер», – печально проговорил Колосов. «Умер? вот те на! А это кто?» – «Мой родственник – честь имею представить: Николай Алекс…» – «Хорошо, хорошо, – перебил его Иван Семеныч, – рад, очень рад. А в карты играет?» – «Играет, как же!» – «Ну и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна, где ты? карточный стол – поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г-н Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. «Послушай, – сказал он, – мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. «Что ж вы, батюшка, как вас зовут, – пожалуйте сюда», – воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты; перед диваном, из которого в нескольких местах высовывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухощавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая, сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. «Вот, – сказал Иван Семеныч, – рекомендую; прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого; посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было в комнате. «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна, овцы кашляют», – проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Господин Сидоренко ужасно горячился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпал сестру упреками; но она, по-видимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. «Вы, Иван Семеныч, – проговорила она с сердцем, – супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» – «Будто?» – «Нет, не уморите». – «Будто?» – «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Колосову вздумалось привести меня… Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет! – повторял беспрестанно отставной поручик, – далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренно посылал его ко всем чертям. Эта пытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум – оглянулся и увидел Колосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой посматривала на меня. «Набей-ка мне трубку, Варя», – проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худа; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился. Сидоренко закурил трубку и возопил: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепьяно, попросил ее сыграть плясовую и пустился отхватывать казачка взапуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась, раскашлялась и ушла к себе наверх. Горбатая старушонка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Колосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Колосова… и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его – и любима им. Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась… Я радовался за Колосова… А между тем мне было, чёрт возьми, завидно…
После ужина мы с Колосовым тотчас взялись за шапки, что, однако ж, не помешало поручику, позевывая, сказать нам: «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Колосова до передней. «Когда же вы придете, Андрей Николаевич? – шепнула она ему. «На днях, непременно». – «Приведите ж и его», – прибавила она с весьма коварной улыбкой. «Как же, как же…» «Покорнейший слуга!» – подумал я…
На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Колосов довольно странным образом познакомился с господином Сидоренко.[8 - Месяцев шесть тому назад Колосов ~ познакомился с господином Сидоренко. – В журнальном тексте повести было: «Месяца четыре тому назад…» Внеся в издание 1856 г. поправку, Тургенев всё же не устранил до конца допущенную им неточность: по хронологии событий в повести знакомство Колосова с Сидоренко состоялось примерно за год до описываемой сцены, которая происходила весной, вскоре после того, как «в половине апреля» умер Гаврилов. Познакомившись с отставным поручиком тоже весной, Колосов летом стал навещать его дом «всё чаще и чаще»; Гаврилов играл в карты с Сидоренко «в течение целой осени и зимы» (см.: наст, том, с. 12, 17 и 18).] В один дождливый вечер Колосов возвращался домой с охоты – и подходил уже к …ой заставе, как вдруг в недальнем расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был господин Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечениям испуганной сестры и дочери, сбегал за доктором… Между тем настало утро; Колосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидать раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал трубку и, помолчав немного, закричал: «Сестра! а сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этот… как его зовут, чёрт знает! ушел, что ли?» – «Нет, я еще здесь, – отвечал Колосов, подойдя к дверям. – Вам лучше теперь?» – «Лучше, – отвечал поручик, – войдите-ка сюда, батюшка». Колосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне – как вас зовут, чёрт вас знает?» – «Колосов», – возразил Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Колосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом всё чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику – да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма нелюбезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческому. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба… свадьба, – проговорил он. – Ну, на какой дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтоб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Колосов ходил к нему, – разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец, – сказал он ему, – тебе, я вижу, весело болтать с моей единородной, а мне, старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следующий день Колосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Колосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Колосов прибавил: «Я люблю Варю, она премилая девушка; ты ей понравился».
Я, кажется, забыл довести до сведения вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщин и избегал их, хотя, бывало, наедине по целым часам мечтал о свиданьях, о любви, о взаимной любви и т. д. Варвара Ивановна была первая девушка, с которой необходимость заставила меня поговорить – именно необходимость. Варя была девушка очень обыкновенная, – а между тем таких девушек весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замечал в ней ничего натянутого, неестественного, жеманного: оттого, что она была простое, откровенное, несколько грустное создание; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мне нравилась ее тихая улыбка; я любил ее простодудшо-звонкий голосок, ее легкий и веселый смех, ее внимательные, хотя совсем не «глубокие» взоры. Этот ребенок не обещал ничего; но вы невольно любовались им, как любуетесь внезапным мягким криком иволги вечером, в высокой и темной березовой роще. Я должен сознаться, что в иное время я довольно равнодушно прошел бы мимо такого созданья: мне теперь не до вечерних одиноких прогулок, не до иволг; но тогда…
Господа, я думаю, вы, как все порядочные люди, были влюблены хоть раз в течение своей жизни и на собственном опыте узнали, каким образом зарождается и развивается любовь в человеческом сердце; а потому я не стану слишком распространяться о том, что происходило во мне тогда. Мы с Колосовым довольно часто ходили к Ивану Семенычу; и хотя проклятые карты меня не раз приводили в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины (я полюбил Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада. Я не старался подавлять это возникающее чувство; притом, когда я, наконец, решился назвать это чувство по имени, оно уже было слишком сильно… Я молча лелеял и ревниво и робко таил свою любовь. Мне самому нравилось это томительное брожение молчаливой страсти. Страдания мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по целым дням ощущал в груди то особенное физическое чувство, которое служит признаком присутствия любви. Я не в состоянии изобразить вам ту борьбу разнороднейших ощущений, которая происходила во мне, когда, например, Колосов возвращался с Варей из саду и всё лицо ее дышало восторженной преданностью, усталостью от избытка блаженства… Она до того жила его жизнью, до того была проникнута им, что незаметно перенимала его привычки, так же взглядывала, так же смеялась, как он… Я воображаю, какие мгновенья провела она с Андреем, каким блаженством обязана ему… А он… Колосов не утратил своей свободы; в ее отсутствии он, я думаю, и не вспоминал о ней; он был всё тем же беспечным, веселым и счастливым человеком, каким мы его всегда знавали.
Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану Семенычу довольно часто. Иногда (когда он не был в духе) отставной поручик не засаживал меня за карты; в таком случае он молча забивался в угол, хмурил брови и поглядывал на всех волком. В первый раз я обрадовался его снисхожденью; но потом, бывало, сам начну упрашивать его сесть за «вистик»: роль третьего лица так невыносима! я так неприятно стеснял и Колосова и Варю, хотя они сами уверяли друг друга, что при мне нечего церемониться!..
Между тем время шло да шло… Они были счастливы… Я не охотник описывать счастье других. Но вот я стал замечать, что детская восторженность Вари постепенно заменялась более женским, более тревожным чувством. Я начал догадываться, что новая погудка загудела на старый лад, то есть что Колосов… понемногу… холодеет. Это открытие меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовал ни малейшего негодованья против Андрея.
Промежутки между нашими посещениями становились всё больше и больше… Варя начинала встречать нас с заплаканными глазками. Послышались упреки… Бывало, я спрошу Колосова с притворным равнодушием: «Что ж? пойдем мы сегодня к Ивану Семенычу?..» Он холодно посмотрит на меня и спокойно проговорит: «Нет, не пойдем». Мне иногда казалось, что он лукаво улыбается, говоря со мной о Варе… Вообще я не заменил ему Гаврилова… Гаврилов был в тысячу раз добрей и глупей меня.
Теперь позвольте мне небольшое отступление. Говоря вам о своих университетских товарищах, я не упомянул о некоем господине Щитове.[9 - …я не упомянул о некоем господине Щитове. – Прототипом Щитова, выведенного Тургеневым также в «Гамлете Щигровского уезда» и в «Рудине» (глава VI), был член кружка Станкевича, приятель Белинского, поэт И. П. Клюшников (см. о нем: Т, ПСС и П, Письма, т. III. с. 479–480).] Этому Щитову минул тридцать пятый год; он уже лет десять числился в студентах. Я и теперь живо вижу перед собой его довольно длинное бледное лицо, маленькие карие глазки, длинный, орлиный, к концу скривленный нос, тонкие, насмешливые губы, торжественный хохол, подбородок, самодовольно утопавший в широком полинялом галстуке цвета воронова крыла, манишку с бронзовыми пуговицами, синий фрак нараспашку, пестрый жилет; мне слышится его неприятно дребезжащий смех… Он таскался всюду, отличался на всех возможных «танцклассах»… Помнится, я не мог без особенного содроганья слушать его цинические рассказы… Колосов его как-то сравнил однажды с неподметенной комнатой русского трактира… страшное сравнение! И между тем в этом человеке было пропасть ума, здравого смысла, наблюдательности, остроты… Он иногда поражал нас каким-нибудь до того дельным, до того верным и резким словом, что мы все невольно притихали и с изумленьем глядели на него. Да ведь русскому человеку в сущности всё равно: глупость ли он сказал или умную вещь. В особенности боялись Щитова те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики, которые по целым дням мучительно высиживают дюжину паскуднейших стишков, нараспев читают их своим «друзьям» и пренебрегают всяким положительным знаньем.[10 - …те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики ~ пренебрегают всяким положительным знаньем. – Эта уничтожающая характеристика свидетельствует о большой близости взглядов Тургенева на современную ему поэзию к мнениям Белинского, постоянно преследовавшего бездарных «стихокропателей», которые выдают свою «дикую галиматью» за полную мыслей поэзию (см., например: Белинский, т. 6. с. 335–340 и 565–568, т. 7, с. 601–609).] Одного из них он просто выжил из Москвы, беспрестанно повторяя ему его же два стишка:
Человек —
Сей неободранный скелет…
«Скелет» рифмовал с «человеком». Между тем сам Щитов тоже ведь ничего не делал и ничему не учился… Но это всё в порядке вещей. Вот этот-то Щитов, бог весть с чего, начал трунить над моей романтической привязанностью к Колосову. В первый раз я с благородным негодованием прогнал его к чёрту; во второй раз я с холодным презреньем объявил ему, что он не в состоянии судить о нашей дружбе – однако ж я его не прогнал; и когда он, прощаясь со мной, заметил, что я без позволения Колосова не смею даже хвалить его, мне стало досадно; последние слова Щитова запали мне в душу. Более двух недель я не видал Вари… Гордость, любовь, смутное ожидание – множество разных чувств расшевелилось во мне… Я махнул рукой и с страшным замиранием сердца отправился один к Ивану Семенычу.
Не знаю, как я добрался до знакомого домика; помню, что несколько раз садился отдыхать на дороге – не от усталости, от волнения. Я вошел в переднюю и не успел еще произнести одно слово, как дверь из залы растворилась и Варя выбежала ко мне навстречу. «Наконец, – сказала она трепещущим голосом, – где ж Андрей Николаевич?» – «Колосов не пришел…» – пробормотал я с усилием. «Не пришел?» – повторила она. «Да… он велел вам сказать, что… его задержали…» Я решительно не знал сам, что говорил, и не смел поднять глаза. Варя неподвижно и безмолвно стояла передо мною. Я взглянул на нее: она повернула голову в сторону; две крупные слезы медленно покатились по ее щекам. В выражении ее лица было столько внезапной, горькой скорби; борьба стыдливости, горя, доверенности ко мне так добродушно, так трогательно высказалась в невольном движении ее бедной головки, что сердце во мне перевернулось. Я подался немного вперед… она быстро вздрогнула и убежала. В зале меня встретил Иван Семеныч. «Что это, батюшка, вы один-с?» – спросил он меня, странно прищурив левый глаз. «Один-с», – отвечал я с замешательством. Сидоренко вдруг расхохотался и ушел в другую комнату. Я никогда еще не находился в таком глупейшем положении, – чёрт знает что за гадость! Но делать было нечего. Я стал ходить взад и вперед по зале. «Чему, – думал я, – засмеялся этот толстый кабан?» Матрена Семеновна с чулком в руках вышла в залу и уселась у окошка. Я начал с ней разговаривать. Между тем подали чай. Варя сошла сверху, бледная и печальная. Отставной поручик острил насчет Колосова. «Я, – говорил он, – знаю, что он за гусь; теперь, я думаю, чай, его сюда калачом не заманишь!» Варя поспешно встала и ушла. Иван Семеныч посмотрел ей вслед и плутовски присвистнул. Я с недоумением взглянул на него. «Неужели ж, – думал я, – он всё знает?» И поручик, как будто угадывая мои мысли, утвердительно покачал головой. Тотчас после чая я встал и раскланялся. «Вас-то, батюшка, мы еще увидим», – заметил мне поручик. Я ни слова не отвечал… я просто начинал бояться этого человека. На крыльце чья-то холодная, дрожащая рука схватила мою руку; я оглянулся: Варя. «Мне нужно поговорить с вами, – шепнула она. – Приходите завтра пораньше, прямо в сад. После обеда папаша спит; нам никто не помешает». Я молча пожал ей руку – и мы расстались.
На другой день, в три часа пополудни, я уже был в саду Ивана Семеныча. Утром я не видал Колосова, хоть он и заходил ко мне. День был осенний, серый, но тихий и теплый. Желтые тонкие былинки грустно качались над побледневшей травой; по темно-бурым, обнаженным сучьям орешника попрыгивали проворные синицы; запоздалые жаворонки торопливо бегали по дорожкам; кой-где по зеленям осторожно пробирался заяц; стадо лениво бродило по жнивью. Я нашел Варю в саду, под яблоней, на скамейке; на ней было темное, немного измятое платье; в ее усталом взгляде, в небрежной прическе волос высказывалась неподдельная горесть.
Я сел подле нее. Мы оба молчали. Она долго вертела в руках какую-то ветку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевич…» Я тотчас заметил по движениям ее губ, что она собиралась заплакать, и начал утешать ее, с жаром уверять ее в привязанности Андрея… Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятные слова и тотчас же умолкала, но не плакала. Первые мгновения, которых я более всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась об Андрее. «Я знаю, что он меня теперь уж не любит, – повторяла она, – бог с ним! Я не могу придумать, как мне жить без него… Я по ночам не сплю, все плачу… Что ж мне делать?.. Что ж мне делать?..» Глаза ее наполнились слезами. «Он мне казался таким добрым… и вот…» Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажется, – продолжала она, – он мне читал из Пушкина, сидел со мной на этой скамье…» Наивная болтливость Вари меня трогала; я молча слушал ее признанья: душа моя медлительно проникалась горьким, мучительным блаженством; я не отводил глаз от этого бледного лица, от этих длинных мокрых ресниц, от полураскрытых, слегка засохших губ… И между тем я чувствовал… Угодно вам выслушать небольшой психологический разбор моих тогдашних чувств? Во-первых, меня мучила мысль, что не я любим, не я заставляю страдать Варю; во-вторых, меня радовала ее доверенность; я знал: она будет благодарна за то, что я доставил ей возможность высказать свое горе; в-третьих, я внутренно давал себе слово сблизить опять Колосова с Варей, и меня утешало сознанье моего великодушия… в-четвертых, я надеялся своим самоотвержением тронуть сердце Вари – а там… Вы видите, я не щажу себя; слава богу, пора! Но вот на колокольне …го монастыря пробило пять часов; вечер быстро приближался. Варя торопливо встала, всунула мне в руку записочку и пошла домой. Я догнал ее, обещал ей привести Андрея и тихонько, будто счастливый любовник, выскочил из калитки в поле. На записке неровным почерком были написаны слова: «Милостивому государю, Андрею Николаевичу».
На другой же день, рано поутру, я отправился к Колосову. Признаюсь, хоть я и уверял себя, что мои намерения не только благородны, но даже вообще исполнены великодушного самоотвержения, я все-таки чувствовал какую-то неловкость, даже робость. Пришел я к Колосову. У него сидел некто Пузырицын, недоучившийся студент, один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых».[11 - …один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых». – Поставщиками многочисленных в 1830–1840-х годах произведений серой или, по выражению Белинского, «серобумажной» мещанской литературы были по преимуществу московские авторы. В статье «Петербургская литература» (1845) Белинский писал о них: «Московский писака изображает в своих романах семейную жизнь, где рисуются он и она, проклятые места и тому подобные штуки, или описывает поколебание татарского владычества в Сокольниках, подвиги Таньки-разбойницы в Марьиной роще…» (Белинский, т. 8, с. 562, ср. также т. 7, с. 637).] Пузырицын был весьма добрый и робкий человек и всё собирался поступить в гусары, несмотря на свои тридцать три года. Он принадлежал к числу тех людей, которым непременно надобно раз в сутки сказать фразу вроде: «Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете»,[12 - …«Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете»… – Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Вюртембергской» (1819). К 1840-м годам мысль, поэтически выраженная Жуковским, была опошлена его эпигонами и превратилась в избитый штамп. Не исключено, что мысль о пародийном использовании двустишия Жуковского возникла у Тургенева под влиянием рецензии Белинского на сочинения И. Мятлева, в которой оно было процитировано (Белинский, т. 8, с. 221. Рецензия была напечатана в майской книжке «Отечественных записок» 1844 г., за полгода до «Андрея Колосова»).] для того чтобы всё остальное время дня с удвоенной приятностью покуривать трубочку в кружку «добрых товарищей». Зато его и прозвали идеалистом. Итак, этот Пузырицын сидел у Колосова и читал ему какой-то «отрывок». Я стал слушать: дело шло о юноше, который любил деву, убивает ее и т. д. Наконец, Пузырицын кончил и удалился. Его нелепое сочинение, восторженно крикливый голос, вообще его присутствие возбудило в Колосове насмешливую раздражительность. Я чувствовал, что пришел не в пору, но делать было нечего; без всяких предисловий вручил я Андрею записку Вари.
Колосов с изумлением посмотрел на меня, распечатал записку, пробежал ее глазами, помолчал и спокойно улыбнулся. «Вот как! – проговорил он, наконец. – Так ты был у Ивана Семеныча?» – «Был, вчера, один», – отвечал я отрывисто и решительно. «А!..» – насмешливо заметил Колосов и закурил трубку. «Андрей, – сказал я ему, – тебе не жаль ее?.. Если б ты видел ее слезы…» И я пустился красноречиво описывать свое вчерашнее посещение. Я действительно был тронут. Колосов молчал и курил трубку. «Ты сидел с ней под яблоней в саду? – проговорил он, наконец. – Помнится, в мае и я сидел с ней на этой скамейке… Яблонь была в цвету, изредка падали на нас свежие белые цветочки, я держал обе руки Вари… мы были счастливы тогда… Теперь яблонь отцвела, да и яблоки на ней кислые». Я запылал благородным негодованьем, начал упрекать Андрея в холодности, в жестокости; толковал ему, что он не имеет права так внезапно покинуть девушку, в которой он возбудил множество новых впечатлений; просил его по крайней мере пойти проститься с Варей. Колосов выслушал меня до конца. «Положим, – сказал он мне, когда, взволнованный и усталый, я бросился в кресла, – положим, что тебе, как другу моему, позволено осуждать меня… Но выслушай же мое оправдание, хотя…» Тут он помолчал немного и странно улыбнулся. «Варя прекрасная девушка, – продолжал он, – и ни в чем передо мной не виновата… Напротив, я ей многим обязан, очень многим. Я перестал ходить к ней по весьма простой причине – я разлюбил ее…» – «Да отчего же? отчего же?» – перебил я его. «А бог знает отчего. Пока я любил ее, я весь принадлежал ей; я не думал о будущем и всем, всей жизнью своей делился с нею… Теперь эта страсть во мне погасла… Что ж? Ты мне прикажешь притворяться, прикидываться влюбленным, что ли? Да из чего? из жалости к ней? Если она порядочная девушка, так она сама не захочет такой милостыни, а если она рада тешиться моим… участием, так чёрт ли в ней?..» Беспечно-резкие выражения Колосова меня оскорбляли, может быть, более потому, что дело шло о женщине, которую я втайне любил… Я вспыхнул. «Полно! – сказал я ему, – полно! Я знаю, почему ты перестал ходить к Варе». – «Почему?» – «Танюша тебе запретила». Сказав эти слова, я вообразил, что сильно уязвил Андрея. Эта Танюша была весьма «легкая» барышня, черноволосая, смуглая, лет двадцати пяти, развязная и умная как бес, Щитов в женском платье. Колосов ссорился и мирился с ней раз пять в месяц. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждет его крови… Да и Андрей не мог бы обойтись без нее. Колосов посмотрел на меня и спокойно проговорил: «Может быть». – «Не может быть, – закричал я, – а наверное!» Упреки мои, наконец, надоели Колосову… Он встал и надел фуражку. «Куда?» – «Гулять; у меня от вас с Пузырицыным голова разболелась». – «Ты на меня сердишься?» – «Нет», – отвечал он, улыбнувшись своей милой улыбкой, и протянул мне руку. «По крайней мере, что ты велишь сказать Варе?» – «Что?.. – Он немного призадумался. – Она тебе сказывала, – промолвил он, – что мы вместе с ней читали Пушкина… Напомни ей один пушкинский стих». – «Какой, какой?» – спросил я с нетерпеньем. «А вот какой:
Что было, то не будет вновь».[13 - «Что было, то не будет вновь». – Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы».]
С этими словами он вышел из комнаты. Я пошел вслед за ним; на лестнице он остановился. «И очень она огорчена?» – спросил он меня, надвинув шапку на глаза. «Очень, очень…» – «Бедная! Утешь ее, Николай; ведь ты ее любишь». – «Да, я привязался к ней, разумеется…» – «Ты ее любишь», – повторил Колосов и взглянул мне прямо в глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись.
Придя домой, я был как в лихорадке.
«Я исполнил свой долг, – думал я, – победил собственное самолюбие; я советовал Андрею сойтись вновь с Варей!!. Теперь я прав: честь предложена, от убытков бог избавил». Между тем равнодушие Андрея оскорбляло меня. Он не ревновал ко мне, он велел мне утешать ее… Да разве Варя уж такая обыкновенная девушка?.. разве она не стоит даже сожаленья?.. «Найдутся люди, которые сумеют оценить то, чем вы пренебрегаете, Андрей Николаич!.. Но что пользы?.. Ведь она меня не любит… Да, она меня не любит теперь, пока она еще не совсем потеряла надежду на возвращение Колосова… Но потом… кто знает? моя преданность ее тронет, я откажусь от всяких притязаний… я отдам ей всего себя, безвозвратно… Варя! неужели ж ты меня не полюбишь… никогда?.. никогда?..»
Вот какие речи произносил ваш покорнейший слуга в столичном граде Москве, лета тысяща восемьсот тридцать третьего, в доме своего почтенного наставника. Я плакал… я замирал… Погода была скверная… мелкий дождь с упорным, тонким скрипом струился по стеклам; влажные, темно-серые тучи недвижно висели над городом. Я наскоро пообедал, не отвечал на заботливые расспросы доброй немки, которая сама расхныкалась при виде моих красных, опухших глаз (немки – известное дело – всегда рады поплакать); обошелся весьма немилостиво с наставником… и тотчас после обеда отправился к Ивану Семенычу… Согнувшись в три погибели на тряских «калиберных» дрожках,[14 - …на тряских «калиберных» дрожках… – Калиберные дрожки, или калибер – бытовавшее в старой Москве название извозчичьего экипажа особой, удлиненной формы. В качестве характерной детали московской жизни они описаны в очерках И. Т. Кокорева «Москва сороковых годов» (М., 1959, с. 21) и в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (Гиляровский В. А. Избранное. М., 1960. Т. 3, с. 16).] я сам себя спрашивал: что? рассказать ли Варе всё как есть, или продолжать лукавить и понемногу отучать ее от Андрея?.. Я доехал до Ивана Семеныча и не знал, на что решиться… Я застал всё семейство в зале. Увидев меня, Варя страшно побледнела, но не тронулась с места; Сидоренко заговорил со мной как-то особенно насмешливо… Я отвечал ему как мог, изредка поглядывая на Варю… и почти бессознательно придал своему лицу уныло-задумчивое выражение. Поручик опять составил «вистик». Варя села подле окошка и не шевелилась. «Чай, тебе теперь скучно?» – раз двадцать спросил ее Иван Семеныч. Наконец, мне удалось улучить удобное мгновенье. «Вы опять одни», – шепнула мне Варя. «Один, – отвечал я мрачно, – и, вероятно, надолго». Она быстро понурила голову. «Отдали вы ему мое письмо?» – проговорила она едва слышным голосом. «Отдал». – «Ну?..» Она задыхалась. Я взглянул на нее… Злая радость внезапно вспыхнула во мне. «Он велел вам сказать, – произнес я с расстановкою, – что было, то не будет вновь…» Варя схватилась левой рукой за сердце, протянула правую вперед, покачнулась вся и проворно вышла из комнаты. Я хотел догнать ее… Иван Семеныч остановил меня. Я остался еще часа два у него, но Варя не появлялась. На возвратном пути мне стало совестно… совестно перед Варей, перед Андреем, перед самим собою; хотя, говорят, лучше разом отсечь страдающий член, чем долго томить больного, но кто ж мне дал право так безжалостно поразить сердце бедной девушки?.. Я долго не мог заснуть… но заснул же, наконец. Вообще я должен повторить, что «любовь» ни разу не лишала меня сна.
Я начал ездить к Ивану Семенычу довольно часто; мы виделись по-прежнему с Колосовым, но ни я, ни он не упоминали о Варе. Мои отношения к ней были довольно странного рода. Она привязалась ко мне тою привязанностью, которая исключает всякую возможность любви; она не могла не заметить моего горячего участия и охотно со мной говорила… о чем бы вы думали? – о Колосове, об одном Колосове! Этот человек до того завладел ею, что она как будто не принадлежала самой себе. Я тщетно старался возбудить ее гордость… она или молчала, или говорила, и как! болтала о Колосове. Я тогда и не подозревал, что горе такого рода, болтливое горе, в сущности гораздо истиннее всех молчаливых страданий. Признаюсь, я пережил много горьких мгновений в то время. Я чувствовал, что не в состоянии заменить Колосова; я чувствовал, что прошедшее Вари так полно, так прекрасно… а настоящее так бедно… Я дошел до того, что невольно вздрагивал при словах: «Помните ли…», которыми почти каждая речь ее начиналась. Она немного похудела в первые дни нашего знакомства… но потом опять поправилась и даже повеселела; ее тогда можно было сравнить с раненой, не совсем еще выздоровевшей птичкой. Между тем мое положение становилось невыносимым; самые низкие страсти понемногу завладели душой моей; мне случалось клеветать на Колосова в присутствии Вари. Я решился прекратить такие неестественные отношения. Но как? Расстаться с Варей – я не мог… Объявить ей свою любовь – я не смел; я чувствовал, что не могу пока надеяться на взаимность. Жениться на ней… Эта мысль меня испугала; мне было всего восьмнадцать лет; мне стало страшно так рано «закабалить» всю свою будущность; я вспомнил отца, мне послышались насмешки товарищей, Колосова… Но, говорят, всякая мысль подобна тесту: стоит помять ее хорошенько – всё из нее сделаешь. Я начал по целым дням думать о женитьбе… Я воображал себе, какой благодарностью преисполнится сердце Вари, когда я, товарищ и поверенный Колосова, предложу ей свою руку, зная, что она безнадежно любит другого. Люди опытные, помнится, говаривали мне, что брак по любви – совершенная нелепость; я начал фантазировать: воображал себе наше тихое житье вдвоем, где-нибудь в теплом уголке южной России; мысленно следил за постепенным переходом сердца Вари от благодарности к дружбе, от дружбы к любви… Я давал себе слово тотчас же оставить Москву, университет, забыть всё и всех. Я начал избегать свиданий с Колосовым. Наконец, в одно зимнее ясное утро (накануне Варя как-то особенно меня очаровала) я оделся получше, медленно и торжественно вышел из комнаты, нанял отличного извозчика и поехал к Ивану Семенычу. Варя сидела в зале одна и читала Карамзина. Увидев меня, она тихонько положила книгу на колени и с тревожным любопытством посмотрела мне в лицо: я никогда к ним по утрам не ездил… Я подсел к ней; мучительно билось мое сердце. «Что вы это читаете?» – спросил я, наконец. «Карамзина». – «Что ж? Вас занимает русская…» Она вдруг перебила меня. «Послушайте, вы не от Андрея ли?» Это имя, этот трепетный, вопрошающий голос, полурадостное, полуробкое выражение ее лица, все эти несомненные признаки живучей любви – стрелами впились в мою душу. Я решился или расстаться с Варей, или получить от нее же самой право навсегда согнать с ее губ ненавистное имя Андрея. Я не помню, что я сказал ей тогда; сперва я, должно быть, выражался довольно неясно, потому что она долго меня не понимала; наконец, я не вытерпел и почти закричал: «Я вас люблю, я хочу на вас жениться». – «Вы меня любите?» – с изумлением проговорила Варя. Мне показалось, что она хочет встать, уйти, отказать мне. «Ради бога, – прошептал я задыхаясь, – не отвечайте мне, не говорите мне ни да, ни нет: подумайте; завтра я вернусь за решительным ответом… Я давно вас люблю. Я не требую от вас любви, я хочу быть вашим защитником, вашим другом, не отвечайте мне теперь, не отвечайте… До завтра». С этими словами я бросился вон из комнаты. В передней встретил меня Иван Семеныч и не только не удивился моему посещению, но даже с приятной улыбкой предложил мне яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, что я просто остолбенел. «Возьмите ж яблочко, хорошее яблочко, право!» – твердил Иван Семеныч. Я машинально взял, наконец, яблоко и доехал с ним до дома.
Вы легко себе можете представить, как я провел весь этот день и следующее утро. Эту ночь я спал довольно плохо. «Боже мой! боже мой! – думал я, – если она мне откажет!.. Я погибну… я погибну!.. – повторял я уныло. – Да, она непременно мне откажет… И к чему я так торопился!!.» Желая чем-нибудь развлечь себя, я начал писать письмо к отцу – отчаянное, решительное. Говоря о себе, я употреблял слова: «ваш сын». Бобов ко мне зашел. Я стал плакать на его груди, чему бедный Бобов, вероятно, удивился немало… Я потом узнал, что он приходил ко мне занять денег (хозяин грозился выгнать его из дому); он принужден был – говоря студентским языком – удалиться вспять и обратно… Наконец, настал великий миг. Выходя из комнаты, я остановился в дверях. «С какими чувствами, – подумал я, – перешагну я сегодня этот порог!..» Волнение мое при виде домика Ивана Семеныча было до того сильно, что я слез, достал пригоршню снега и жадно приник к нему лицом. «О господи! – думал я, – если я застану Варю одну, – я пропал!» Ноги мои подкашивались; я едва взобрался на крыльцо. Желанья мои сбылись. Я нашел Варю в гостиной с Матреной Семеновной. Я неловко раскланялся и присел к старухе. Лицо Вари было несколько бледнее обыкновенного… мне показалось, что она старалась избегать моих взоров… Но что сталось со мной, когда Матрена Семеновна вдруг поднялась и пошла в другую комнату!.. Я начал глядеть в окно – я весь внутренно трепетал, как осиновый лист. Варя молчала… Наконец, я преодолел свою робость, подошел к ней, нагнул голову… «Что ж вы мне скажете?» – произнес я замирающим голосом. Варя отвернулась – слезы сверкнули у ней на ресницах. «Я вижу, – продолжал я, – мне нечего надеяться…» Варя стыдливо взглянула кругом и молча подала мне руку. «Варя!» – невольно проговорил я… и остановился, как будто испугавшись собственных надежд. «Поговорите с папенькой», – промолвила она, наконец. «Вы мне позволяете поговорить с Иваном Семенычем?..» – «Да-с». Я осыпал ее руки поцелуями. «Полноте-с, полноте-с», – шептала Варя – и вдруг залилась слезами. Я подсел к ней, уговаривал ее, утирал ее слезы… К счастью, Ивана Семеныча не было дома, а Матрена Семеновна ушла в свою светелку. Я клялся Варе в любви, в верности… «Да, – сказала она, удерживая последние рыдания и беспрестанна утирая слезы, – я знаю, вы хороший человек; вы честный человек; вы не то, что Колосов…» – «Опять это имя!..» – подумал я. Но с каким наслажденьем целовал я эти теплые, сырые ручки! с какой тихой радостью глядел я в это милое лицо!.. Я говорил ей о будущем, ходил по комнате, садился перед ней на полу, закрывал глаза рукой и вздрагивал… Тяжелая походка Ивана Семеныча прервала наш разговор. Варя торопливо встала и ушла к себе – не пожав, однако ж, мне руки, не взглянув на меня. Г-н Сидоренко был еще любезнее вчерашнего: смеялся, потирал себе живот, острил насчет Матрены Семеновны и т. д. Я было хотел тотчас попросить его «благословения», но подумал и отложил до завтра. Его тяжелые шутки мне надоели; притом я чувствовал усталость… Я простился с ним и уехал.
Иван Сергеевич Тургенев
Повестью «Андрей Колосов» Тургенев не только сводил счеты с собственным юношеским романтизмом и восторженной мечтательностью; он включался и в общую борьбу с обветшалыми, но еще живучими романтическими традициями. Естественно, что новая, хотя во многом еще и незрелая, повесть Тургенева вызвала одобрение Белинского: «„Андрей Колосов“ г. Т. Л. – рассказ чрезвычайно замечательный по прекрасной мысли: автор обнаружил в нем много ума и таланта, а вместе с тем и показал, что он не хотел сделать и половины того, что бы мог сделать, оттого и вышел хорошенький рассказ там, где следовало выйти прекрасной повести».
Иван Сергеевич Тургенев
Андрей Колосов
В небольшой порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:
– Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?
Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.
– Так что ж нам, по-твоему, делать? – сказал один из нас, – играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?
– Приятно играть в карты и полезно спать, – возразил небольшой человечек, – а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.
Мы задумались.
– Странное дело, – заметил один из нас, большой шутник, – кроме самого себя, я не знаю ни одного необыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете…
– Нет, – воскликнул другой, – не нужно! Да что, – прибавил он, обращаясь к небольшому человечку, – начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.
– Пожалуй, – отвечал тот.
Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:
– Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольное количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня насмерть.
– К делу, к делу, – закричали мы. – Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?
– Нет, господа! – возразил спокойно небольшой человечек, – я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его… знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то… Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор – за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций,[1 - …пачки синих полинялых ассигнаций – бумажных денег пятирублевого достоинства. Ассигнации были введены в России в 1769 г. и находились в обращении до 1843 г., когда в результате реформы министра финансов графа Е. Ф. Канкрина они были заменены кредитными билетами. По официальному курсу, существовавшему в 1830-е годы, один рубль ассигнациями равнялся 27 коп. серебром.] а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники… что я говорю – у меня! даже у моей куцей собаки Армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого, внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало: я чувствовал свое одиночество, жаждал сообщения с так называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: жызнь) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку… Валерьян Никитич, пожалуйте мне пахитос.
Закурив пахитос,[2 - Закурив пахитос… – Пахитос пли, чаще, пахитоска (от испанского pajitos – соломинки) – тонкая папироса.] небольшой человечек продолжал:
– В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: «Знаешь, брат, великую новость? Колосов приехал». – «Колосов? что за птица господин Колосов?» – «Ты его не знаешь? Андрюшу Колосова? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером вернулся с кондиции».[3 - Он вчера вечером вернулся с кондиции. – Слово кондиция (от латинского conditio) в значении: условие, договор – употреблялось в русском языке еще в XVIII в. Выделив это слово курсивом, Тургенев отметил, что новое его значение – домашние уроки, репетиторские занятия в частных домах, – сложившееся в семинарской среде, а затем перешедшее в студенческий обиход, еще не вошло в общелитературный язык и ощущалось как жаргонное. О случаях употребления писателем этого слова см. заметку Т. А. Никоновой: Т сб, вып. 3, с. 175. Ср. у Гоголя в «Вие» (1835): «Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, a иногда и на сюртук» (курсив Гоголя).] – «Да кто он такой?» – «Необыкновенный, братец, человек, помилуй!» – «Необыкновенный человек, – промолвил я, – ступай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!..» – «Э, нет! Колосов не такой». Я было хотел заметить Бобову, что господину Колосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы… Дом, в котором жил Колосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли на двор; толстая баба развешивала белье на веревочки, протянутые от дома к забору… дети перекрикивались на деревянной лестнице…
– К делу! к делу! – возопили мы.
– Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного.[4 - Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. – В этом ироническом замечании термины «приятное» и «полезное» употреблены в том смысле, какой им придавала почти до середины XIX века школьная «теория словесности», не выходившая за пределы архаических традиций классицизма. Согласно поэтике классицизма «приятное» заключалось обыкновенно в живых описаниях предметов; «полезное» выражалось в повествовании о мыслях и поступках людей, которые своим примером должны были поучать читателей (см., например: Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1, с. 109–110 и 472–473).] Пожалуй! Через темный и узкий проход добрались мы до комнаты Колосова; вошли. Вы, вероятно, имеете приблизительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комоде сидел Колосов и курил трубку. Он дружески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Колосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Колосов был действительно необыкновенный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подробнее… Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо… Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо! Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно этого лица?
– То, что Байрон называет: «the music of the face»[1 - «музыка лица» (англ.).],[5 - То, что Байрон называет «the music of the face»… – В поэме «Абидосская невеста» Байрон, описывая красоту Зюлейки, говорит: «the Music breathing from her face» («музыкой веяло от ее лица» – «Bride of Abydos», Canto 1, 179). К этой строке поэт счел необходимым дать примечание, в котором указывал, что это выражение «находили странным», и защищал его правомерность. При этом он ссылался на мнение m-me де Сталь, которая в своей книге «О Германии» писала о возможности сближения музыки и живописи: «…мы сравниваем живопись с музыкой и музыку с живописью, потому что чувства, которые мы испытываем, обнаруживают сходство там, где холодное наблюдение ее видит ничего, кроме различия» (De l’Allemagne, par M-me la baronne de Staёl-Holstein. Tome troisi?me. Paris – Londres, 1813, p. 142).] – заметил один перетянутый и бледный господин.
– Так-с… А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке, чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попадье, пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и российскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников;[6 - …y нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников… – Белинский в своих статьях и рецензиях неоднократно язвительно высмеивал подобные руководства. Так, в 1844 г. он писал: «Нет ничего гибельнее для способностей учащихся молодых людей, как краткие руководства, которые ничего не говорят ни рассудку, ни воображению, а должны усвояться только памятью» (Белинский, т. 8, с. 225; см. также т. 9, с. 273).] а во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Колосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Колосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Колосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам: веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно – эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа, – я понимаю вашу улыбку; точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость… молодость…
Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory…[2 - О, не говорите мне о славном имени!Дни нашей молодости – дни нашей славы…][7 - On talk not to me ~ of our glory… – Начальное двустишие из стихотворения Байрона «Стансы, написанные на пути между Флоренцией и Пизой» («Stanzas written on the road between Florence and Pisa», 1821).] —
промолвил тот же бледный господин…
– Фу ты, чёрт, какая у вас память! и всё из Байрона! – заметил рассказчик. – Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И между тем мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь – именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например, ревность. Колосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого, белокурого и смирного малого по имени Гаврилова. С этим Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешёптывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три… Колосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Колосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог, объяснить себе причину странных отлучек Колосова. Между тем в нем не было ни той таинственности, которою щеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая, стремительная деятельность; только он не тратил своей силы по-пустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа… скажите правду: не случалось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Колосове эти невольные, страстные порывы. Недаром говорят, что любовь проницательна. Я решился – во что бы то ни стало – втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Колосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности… но, к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Колосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы – и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова. В течение целой зимы мои отношения к Колосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с Гавриловым – и не мог понять, чем он лучше меня… Но вдруг всё переменилось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину. Я тоже искренно сожалел о нем, но сердце во мне замирало, ждало чего-то…
В один незабвенный вечер… я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок… кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня «Я пришел к тебе, – начал он довольно глухим голосом, – потому что ты более всех других меня любишь… Я потерял своего лучшего друга, – голос его слегка задрожал, – и чувствую себя одиноким… Вы все не знали Гаврилова… вы не знали…» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне… «Хочешь ли ты заменить мне его?» – сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула… Я не знал, что сказать, я задыхался… Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь – и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться – не похвастаться своим счастием. Пробило восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать… и молча сел на стул. Я взял его за руку «Колосов! право, право, я заслуживаю твою доверенность!» Он взглянул мне прямо в глаза. «Ну, если так, – промолвил он, наконец, – бери шапку, пойдем». – «Куда?» – «Гаврилов меня не спрашивал». Я тотчас же замолчал. «Ты умеешь играть в карты?» – «Умею». Мы вышли, взяли извозчика к …ой заставе. У заставы мы слезли. Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо – в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми парами. Я шел молча за Колосовым Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме, – продолжал Колосов, – живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой девой – и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника – ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я умел молчать не хуже Гаврилова… Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки… Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли, в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» – спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» – раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замасленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы… «Хорош гусь!» – подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич, – промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку, – давненько! А где Севастьян Севастьянович?» – «Гаврилов умер», – печально проговорил Колосов. «Умер? вот те на! А это кто?» – «Мой родственник – честь имею представить: Николай Алекс…» – «Хорошо, хорошо, – перебил его Иван Семеныч, – рад, очень рад. А в карты играет?» – «Играет, как же!» – «Ну и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна, где ты? карточный стол – поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г-н Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. «Послушай, – сказал он, – мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. «Что ж вы, батюшка, как вас зовут, – пожалуйте сюда», – воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты; перед диваном, из которого в нескольких местах высовывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухощавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая, сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. «Вот, – сказал Иван Семеныч, – рекомендую; прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого; посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было в комнате. «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна, овцы кашляют», – проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Господин Сидоренко ужасно горячился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпал сестру упреками; но она, по-видимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. «Вы, Иван Семеныч, – проговорила она с сердцем, – супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» – «Будто?» – «Нет, не уморите». – «Будто?» – «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Колосову вздумалось привести меня… Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет! – повторял беспрестанно отставной поручик, – далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренно посылал его ко всем чертям. Эта пытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум – оглянулся и увидел Колосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой посматривала на меня. «Набей-ка мне трубку, Варя», – проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худа; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился. Сидоренко закурил трубку и возопил: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепьяно, попросил ее сыграть плясовую и пустился отхватывать казачка взапуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась, раскашлялась и ушла к себе наверх. Горбатая старушонка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Колосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Колосова… и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его – и любима им. Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась… Я радовался за Колосова… А между тем мне было, чёрт возьми, завидно…
После ужина мы с Колосовым тотчас взялись за шапки, что, однако ж, не помешало поручику, позевывая, сказать нам: «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Колосова до передней. «Когда же вы придете, Андрей Николаевич? – шепнула она ему. «На днях, непременно». – «Приведите ж и его», – прибавила она с весьма коварной улыбкой. «Как же, как же…» «Покорнейший слуга!» – подумал я…
На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Колосов довольно странным образом познакомился с господином Сидоренко.[8 - Месяцев шесть тому назад Колосов ~ познакомился с господином Сидоренко. – В журнальном тексте повести было: «Месяца четыре тому назад…» Внеся в издание 1856 г. поправку, Тургенев всё же не устранил до конца допущенную им неточность: по хронологии событий в повести знакомство Колосова с Сидоренко состоялось примерно за год до описываемой сцены, которая происходила весной, вскоре после того, как «в половине апреля» умер Гаврилов. Познакомившись с отставным поручиком тоже весной, Колосов летом стал навещать его дом «всё чаще и чаще»; Гаврилов играл в карты с Сидоренко «в течение целой осени и зимы» (см.: наст, том, с. 12, 17 и 18).] В один дождливый вечер Колосов возвращался домой с охоты – и подходил уже к …ой заставе, как вдруг в недальнем расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был господин Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечениям испуганной сестры и дочери, сбегал за доктором… Между тем настало утро; Колосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидать раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал трубку и, помолчав немного, закричал: «Сестра! а сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этот… как его зовут, чёрт знает! ушел, что ли?» – «Нет, я еще здесь, – отвечал Колосов, подойдя к дверям. – Вам лучше теперь?» – «Лучше, – отвечал поручик, – войдите-ка сюда, батюшка». Колосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне – как вас зовут, чёрт вас знает?» – «Колосов», – возразил Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Колосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом всё чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику – да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма нелюбезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческому. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба… свадьба, – проговорил он. – Ну, на какой дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтоб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Колосов ходил к нему, – разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец, – сказал он ему, – тебе, я вижу, весело болтать с моей единородной, а мне, старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следующий день Колосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Колосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Колосов прибавил: «Я люблю Варю, она премилая девушка; ты ей понравился».
Я, кажется, забыл довести до сведения вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщин и избегал их, хотя, бывало, наедине по целым часам мечтал о свиданьях, о любви, о взаимной любви и т. д. Варвара Ивановна была первая девушка, с которой необходимость заставила меня поговорить – именно необходимость. Варя была девушка очень обыкновенная, – а между тем таких девушек весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замечал в ней ничего натянутого, неестественного, жеманного: оттого, что она была простое, откровенное, несколько грустное создание; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мне нравилась ее тихая улыбка; я любил ее простодудшо-звонкий голосок, ее легкий и веселый смех, ее внимательные, хотя совсем не «глубокие» взоры. Этот ребенок не обещал ничего; но вы невольно любовались им, как любуетесь внезапным мягким криком иволги вечером, в высокой и темной березовой роще. Я должен сознаться, что в иное время я довольно равнодушно прошел бы мимо такого созданья: мне теперь не до вечерних одиноких прогулок, не до иволг; но тогда…
Господа, я думаю, вы, как все порядочные люди, были влюблены хоть раз в течение своей жизни и на собственном опыте узнали, каким образом зарождается и развивается любовь в человеческом сердце; а потому я не стану слишком распространяться о том, что происходило во мне тогда. Мы с Колосовым довольно часто ходили к Ивану Семенычу; и хотя проклятые карты меня не раз приводили в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины (я полюбил Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада. Я не старался подавлять это возникающее чувство; притом, когда я, наконец, решился назвать это чувство по имени, оно уже было слишком сильно… Я молча лелеял и ревниво и робко таил свою любовь. Мне самому нравилось это томительное брожение молчаливой страсти. Страдания мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по целым дням ощущал в груди то особенное физическое чувство, которое служит признаком присутствия любви. Я не в состоянии изобразить вам ту борьбу разнороднейших ощущений, которая происходила во мне, когда, например, Колосов возвращался с Варей из саду и всё лицо ее дышало восторженной преданностью, усталостью от избытка блаженства… Она до того жила его жизнью, до того была проникнута им, что незаметно перенимала его привычки, так же взглядывала, так же смеялась, как он… Я воображаю, какие мгновенья провела она с Андреем, каким блаженством обязана ему… А он… Колосов не утратил своей свободы; в ее отсутствии он, я думаю, и не вспоминал о ней; он был всё тем же беспечным, веселым и счастливым человеком, каким мы его всегда знавали.
Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану Семенычу довольно часто. Иногда (когда он не был в духе) отставной поручик не засаживал меня за карты; в таком случае он молча забивался в угол, хмурил брови и поглядывал на всех волком. В первый раз я обрадовался его снисхожденью; но потом, бывало, сам начну упрашивать его сесть за «вистик»: роль третьего лица так невыносима! я так неприятно стеснял и Колосова и Варю, хотя они сами уверяли друг друга, что при мне нечего церемониться!..
Между тем время шло да шло… Они были счастливы… Я не охотник описывать счастье других. Но вот я стал замечать, что детская восторженность Вари постепенно заменялась более женским, более тревожным чувством. Я начал догадываться, что новая погудка загудела на старый лад, то есть что Колосов… понемногу… холодеет. Это открытие меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовал ни малейшего негодованья против Андрея.
Промежутки между нашими посещениями становились всё больше и больше… Варя начинала встречать нас с заплаканными глазками. Послышались упреки… Бывало, я спрошу Колосова с притворным равнодушием: «Что ж? пойдем мы сегодня к Ивану Семенычу?..» Он холодно посмотрит на меня и спокойно проговорит: «Нет, не пойдем». Мне иногда казалось, что он лукаво улыбается, говоря со мной о Варе… Вообще я не заменил ему Гаврилова… Гаврилов был в тысячу раз добрей и глупей меня.
Теперь позвольте мне небольшое отступление. Говоря вам о своих университетских товарищах, я не упомянул о некоем господине Щитове.[9 - …я не упомянул о некоем господине Щитове. – Прототипом Щитова, выведенного Тургеневым также в «Гамлете Щигровского уезда» и в «Рудине» (глава VI), был член кружка Станкевича, приятель Белинского, поэт И. П. Клюшников (см. о нем: Т, ПСС и П, Письма, т. III. с. 479–480).] Этому Щитову минул тридцать пятый год; он уже лет десять числился в студентах. Я и теперь живо вижу перед собой его довольно длинное бледное лицо, маленькие карие глазки, длинный, орлиный, к концу скривленный нос, тонкие, насмешливые губы, торжественный хохол, подбородок, самодовольно утопавший в широком полинялом галстуке цвета воронова крыла, манишку с бронзовыми пуговицами, синий фрак нараспашку, пестрый жилет; мне слышится его неприятно дребезжащий смех… Он таскался всюду, отличался на всех возможных «танцклассах»… Помнится, я не мог без особенного содроганья слушать его цинические рассказы… Колосов его как-то сравнил однажды с неподметенной комнатой русского трактира… страшное сравнение! И между тем в этом человеке было пропасть ума, здравого смысла, наблюдательности, остроты… Он иногда поражал нас каким-нибудь до того дельным, до того верным и резким словом, что мы все невольно притихали и с изумленьем глядели на него. Да ведь русскому человеку в сущности всё равно: глупость ли он сказал или умную вещь. В особенности боялись Щитова те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики, которые по целым дням мучительно высиживают дюжину паскуднейших стишков, нараспев читают их своим «друзьям» и пренебрегают всяким положительным знаньем.[10 - …те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики ~ пренебрегают всяким положительным знаньем. – Эта уничтожающая характеристика свидетельствует о большой близости взглядов Тургенева на современную ему поэзию к мнениям Белинского, постоянно преследовавшего бездарных «стихокропателей», которые выдают свою «дикую галиматью» за полную мыслей поэзию (см., например: Белинский, т. 6. с. 335–340 и 565–568, т. 7, с. 601–609).] Одного из них он просто выжил из Москвы, беспрестанно повторяя ему его же два стишка:
Человек —
Сей неободранный скелет…
«Скелет» рифмовал с «человеком». Между тем сам Щитов тоже ведь ничего не делал и ничему не учился… Но это всё в порядке вещей. Вот этот-то Щитов, бог весть с чего, начал трунить над моей романтической привязанностью к Колосову. В первый раз я с благородным негодованием прогнал его к чёрту; во второй раз я с холодным презреньем объявил ему, что он не в состоянии судить о нашей дружбе – однако ж я его не прогнал; и когда он, прощаясь со мной, заметил, что я без позволения Колосова не смею даже хвалить его, мне стало досадно; последние слова Щитова запали мне в душу. Более двух недель я не видал Вари… Гордость, любовь, смутное ожидание – множество разных чувств расшевелилось во мне… Я махнул рукой и с страшным замиранием сердца отправился один к Ивану Семенычу.
Не знаю, как я добрался до знакомого домика; помню, что несколько раз садился отдыхать на дороге – не от усталости, от волнения. Я вошел в переднюю и не успел еще произнести одно слово, как дверь из залы растворилась и Варя выбежала ко мне навстречу. «Наконец, – сказала она трепещущим голосом, – где ж Андрей Николаевич?» – «Колосов не пришел…» – пробормотал я с усилием. «Не пришел?» – повторила она. «Да… он велел вам сказать, что… его задержали…» Я решительно не знал сам, что говорил, и не смел поднять глаза. Варя неподвижно и безмолвно стояла передо мною. Я взглянул на нее: она повернула голову в сторону; две крупные слезы медленно покатились по ее щекам. В выражении ее лица было столько внезапной, горькой скорби; борьба стыдливости, горя, доверенности ко мне так добродушно, так трогательно высказалась в невольном движении ее бедной головки, что сердце во мне перевернулось. Я подался немного вперед… она быстро вздрогнула и убежала. В зале меня встретил Иван Семеныч. «Что это, батюшка, вы один-с?» – спросил он меня, странно прищурив левый глаз. «Один-с», – отвечал я с замешательством. Сидоренко вдруг расхохотался и ушел в другую комнату. Я никогда еще не находился в таком глупейшем положении, – чёрт знает что за гадость! Но делать было нечего. Я стал ходить взад и вперед по зале. «Чему, – думал я, – засмеялся этот толстый кабан?» Матрена Семеновна с чулком в руках вышла в залу и уселась у окошка. Я начал с ней разговаривать. Между тем подали чай. Варя сошла сверху, бледная и печальная. Отставной поручик острил насчет Колосова. «Я, – говорил он, – знаю, что он за гусь; теперь, я думаю, чай, его сюда калачом не заманишь!» Варя поспешно встала и ушла. Иван Семеныч посмотрел ей вслед и плутовски присвистнул. Я с недоумением взглянул на него. «Неужели ж, – думал я, – он всё знает?» И поручик, как будто угадывая мои мысли, утвердительно покачал головой. Тотчас после чая я встал и раскланялся. «Вас-то, батюшка, мы еще увидим», – заметил мне поручик. Я ни слова не отвечал… я просто начинал бояться этого человека. На крыльце чья-то холодная, дрожащая рука схватила мою руку; я оглянулся: Варя. «Мне нужно поговорить с вами, – шепнула она. – Приходите завтра пораньше, прямо в сад. После обеда папаша спит; нам никто не помешает». Я молча пожал ей руку – и мы расстались.
На другой день, в три часа пополудни, я уже был в саду Ивана Семеныча. Утром я не видал Колосова, хоть он и заходил ко мне. День был осенний, серый, но тихий и теплый. Желтые тонкие былинки грустно качались над побледневшей травой; по темно-бурым, обнаженным сучьям орешника попрыгивали проворные синицы; запоздалые жаворонки торопливо бегали по дорожкам; кой-где по зеленям осторожно пробирался заяц; стадо лениво бродило по жнивью. Я нашел Варю в саду, под яблоней, на скамейке; на ней было темное, немного измятое платье; в ее усталом взгляде, в небрежной прическе волос высказывалась неподдельная горесть.
Я сел подле нее. Мы оба молчали. Она долго вертела в руках какую-то ветку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевич…» Я тотчас заметил по движениям ее губ, что она собиралась заплакать, и начал утешать ее, с жаром уверять ее в привязанности Андрея… Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятные слова и тотчас же умолкала, но не плакала. Первые мгновения, которых я более всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась об Андрее. «Я знаю, что он меня теперь уж не любит, – повторяла она, – бог с ним! Я не могу придумать, как мне жить без него… Я по ночам не сплю, все плачу… Что ж мне делать?.. Что ж мне делать?..» Глаза ее наполнились слезами. «Он мне казался таким добрым… и вот…» Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажется, – продолжала она, – он мне читал из Пушкина, сидел со мной на этой скамье…» Наивная болтливость Вари меня трогала; я молча слушал ее признанья: душа моя медлительно проникалась горьким, мучительным блаженством; я не отводил глаз от этого бледного лица, от этих длинных мокрых ресниц, от полураскрытых, слегка засохших губ… И между тем я чувствовал… Угодно вам выслушать небольшой психологический разбор моих тогдашних чувств? Во-первых, меня мучила мысль, что не я любим, не я заставляю страдать Варю; во-вторых, меня радовала ее доверенность; я знал: она будет благодарна за то, что я доставил ей возможность высказать свое горе; в-третьих, я внутренно давал себе слово сблизить опять Колосова с Варей, и меня утешало сознанье моего великодушия… в-четвертых, я надеялся своим самоотвержением тронуть сердце Вари – а там… Вы видите, я не щажу себя; слава богу, пора! Но вот на колокольне …го монастыря пробило пять часов; вечер быстро приближался. Варя торопливо встала, всунула мне в руку записочку и пошла домой. Я догнал ее, обещал ей привести Андрея и тихонько, будто счастливый любовник, выскочил из калитки в поле. На записке неровным почерком были написаны слова: «Милостивому государю, Андрею Николаевичу».
На другой же день, рано поутру, я отправился к Колосову. Признаюсь, хоть я и уверял себя, что мои намерения не только благородны, но даже вообще исполнены великодушного самоотвержения, я все-таки чувствовал какую-то неловкость, даже робость. Пришел я к Колосову. У него сидел некто Пузырицын, недоучившийся студент, один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых».[11 - …один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых». – Поставщиками многочисленных в 1830–1840-х годах произведений серой или, по выражению Белинского, «серобумажной» мещанской литературы были по преимуществу московские авторы. В статье «Петербургская литература» (1845) Белинский писал о них: «Московский писака изображает в своих романах семейную жизнь, где рисуются он и она, проклятые места и тому подобные штуки, или описывает поколебание татарского владычества в Сокольниках, подвиги Таньки-разбойницы в Марьиной роще…» (Белинский, т. 8, с. 562, ср. также т. 7, с. 637).] Пузырицын был весьма добрый и робкий человек и всё собирался поступить в гусары, несмотря на свои тридцать три года. Он принадлежал к числу тех людей, которым непременно надобно раз в сутки сказать фразу вроде: «Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете»,[12 - …«Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете»… – Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Вюртембергской» (1819). К 1840-м годам мысль, поэтически выраженная Жуковским, была опошлена его эпигонами и превратилась в избитый штамп. Не исключено, что мысль о пародийном использовании двустишия Жуковского возникла у Тургенева под влиянием рецензии Белинского на сочинения И. Мятлева, в которой оно было процитировано (Белинский, т. 8, с. 221. Рецензия была напечатана в майской книжке «Отечественных записок» 1844 г., за полгода до «Андрея Колосова»).] для того чтобы всё остальное время дня с удвоенной приятностью покуривать трубочку в кружку «добрых товарищей». Зато его и прозвали идеалистом. Итак, этот Пузырицын сидел у Колосова и читал ему какой-то «отрывок». Я стал слушать: дело шло о юноше, который любил деву, убивает ее и т. д. Наконец, Пузырицын кончил и удалился. Его нелепое сочинение, восторженно крикливый голос, вообще его присутствие возбудило в Колосове насмешливую раздражительность. Я чувствовал, что пришел не в пору, но делать было нечего; без всяких предисловий вручил я Андрею записку Вари.
Колосов с изумлением посмотрел на меня, распечатал записку, пробежал ее глазами, помолчал и спокойно улыбнулся. «Вот как! – проговорил он, наконец. – Так ты был у Ивана Семеныча?» – «Был, вчера, один», – отвечал я отрывисто и решительно. «А!..» – насмешливо заметил Колосов и закурил трубку. «Андрей, – сказал я ему, – тебе не жаль ее?.. Если б ты видел ее слезы…» И я пустился красноречиво описывать свое вчерашнее посещение. Я действительно был тронут. Колосов молчал и курил трубку. «Ты сидел с ней под яблоней в саду? – проговорил он, наконец. – Помнится, в мае и я сидел с ней на этой скамейке… Яблонь была в цвету, изредка падали на нас свежие белые цветочки, я держал обе руки Вари… мы были счастливы тогда… Теперь яблонь отцвела, да и яблоки на ней кислые». Я запылал благородным негодованьем, начал упрекать Андрея в холодности, в жестокости; толковал ему, что он не имеет права так внезапно покинуть девушку, в которой он возбудил множество новых впечатлений; просил его по крайней мере пойти проститься с Варей. Колосов выслушал меня до конца. «Положим, – сказал он мне, когда, взволнованный и усталый, я бросился в кресла, – положим, что тебе, как другу моему, позволено осуждать меня… Но выслушай же мое оправдание, хотя…» Тут он помолчал немного и странно улыбнулся. «Варя прекрасная девушка, – продолжал он, – и ни в чем передо мной не виновата… Напротив, я ей многим обязан, очень многим. Я перестал ходить к ней по весьма простой причине – я разлюбил ее…» – «Да отчего же? отчего же?» – перебил я его. «А бог знает отчего. Пока я любил ее, я весь принадлежал ей; я не думал о будущем и всем, всей жизнью своей делился с нею… Теперь эта страсть во мне погасла… Что ж? Ты мне прикажешь притворяться, прикидываться влюбленным, что ли? Да из чего? из жалости к ней? Если она порядочная девушка, так она сама не захочет такой милостыни, а если она рада тешиться моим… участием, так чёрт ли в ней?..» Беспечно-резкие выражения Колосова меня оскорбляли, может быть, более потому, что дело шло о женщине, которую я втайне любил… Я вспыхнул. «Полно! – сказал я ему, – полно! Я знаю, почему ты перестал ходить к Варе». – «Почему?» – «Танюша тебе запретила». Сказав эти слова, я вообразил, что сильно уязвил Андрея. Эта Танюша была весьма «легкая» барышня, черноволосая, смуглая, лет двадцати пяти, развязная и умная как бес, Щитов в женском платье. Колосов ссорился и мирился с ней раз пять в месяц. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждет его крови… Да и Андрей не мог бы обойтись без нее. Колосов посмотрел на меня и спокойно проговорил: «Может быть». – «Не может быть, – закричал я, – а наверное!» Упреки мои, наконец, надоели Колосову… Он встал и надел фуражку. «Куда?» – «Гулять; у меня от вас с Пузырицыным голова разболелась». – «Ты на меня сердишься?» – «Нет», – отвечал он, улыбнувшись своей милой улыбкой, и протянул мне руку. «По крайней мере, что ты велишь сказать Варе?» – «Что?.. – Он немного призадумался. – Она тебе сказывала, – промолвил он, – что мы вместе с ней читали Пушкина… Напомни ей один пушкинский стих». – «Какой, какой?» – спросил я с нетерпеньем. «А вот какой:
Что было, то не будет вновь».[13 - «Что было, то не будет вновь». – Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы».]
С этими словами он вышел из комнаты. Я пошел вслед за ним; на лестнице он остановился. «И очень она огорчена?» – спросил он меня, надвинув шапку на глаза. «Очень, очень…» – «Бедная! Утешь ее, Николай; ведь ты ее любишь». – «Да, я привязался к ней, разумеется…» – «Ты ее любишь», – повторил Колосов и взглянул мне прямо в глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись.
Придя домой, я был как в лихорадке.
«Я исполнил свой долг, – думал я, – победил собственное самолюбие; я советовал Андрею сойтись вновь с Варей!!. Теперь я прав: честь предложена, от убытков бог избавил». Между тем равнодушие Андрея оскорбляло меня. Он не ревновал ко мне, он велел мне утешать ее… Да разве Варя уж такая обыкновенная девушка?.. разве она не стоит даже сожаленья?.. «Найдутся люди, которые сумеют оценить то, чем вы пренебрегаете, Андрей Николаич!.. Но что пользы?.. Ведь она меня не любит… Да, она меня не любит теперь, пока она еще не совсем потеряла надежду на возвращение Колосова… Но потом… кто знает? моя преданность ее тронет, я откажусь от всяких притязаний… я отдам ей всего себя, безвозвратно… Варя! неужели ж ты меня не полюбишь… никогда?.. никогда?..»
Вот какие речи произносил ваш покорнейший слуга в столичном граде Москве, лета тысяща восемьсот тридцать третьего, в доме своего почтенного наставника. Я плакал… я замирал… Погода была скверная… мелкий дождь с упорным, тонким скрипом струился по стеклам; влажные, темно-серые тучи недвижно висели над городом. Я наскоро пообедал, не отвечал на заботливые расспросы доброй немки, которая сама расхныкалась при виде моих красных, опухших глаз (немки – известное дело – всегда рады поплакать); обошелся весьма немилостиво с наставником… и тотчас после обеда отправился к Ивану Семенычу… Согнувшись в три погибели на тряских «калиберных» дрожках,[14 - …на тряских «калиберных» дрожках… – Калиберные дрожки, или калибер – бытовавшее в старой Москве название извозчичьего экипажа особой, удлиненной формы. В качестве характерной детали московской жизни они описаны в очерках И. Т. Кокорева «Москва сороковых годов» (М., 1959, с. 21) и в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (Гиляровский В. А. Избранное. М., 1960. Т. 3, с. 16).] я сам себя спрашивал: что? рассказать ли Варе всё как есть, или продолжать лукавить и понемногу отучать ее от Андрея?.. Я доехал до Ивана Семеныча и не знал, на что решиться… Я застал всё семейство в зале. Увидев меня, Варя страшно побледнела, но не тронулась с места; Сидоренко заговорил со мной как-то особенно насмешливо… Я отвечал ему как мог, изредка поглядывая на Варю… и почти бессознательно придал своему лицу уныло-задумчивое выражение. Поручик опять составил «вистик». Варя села подле окошка и не шевелилась. «Чай, тебе теперь скучно?» – раз двадцать спросил ее Иван Семеныч. Наконец, мне удалось улучить удобное мгновенье. «Вы опять одни», – шепнула мне Варя. «Один, – отвечал я мрачно, – и, вероятно, надолго». Она быстро понурила голову. «Отдали вы ему мое письмо?» – проговорила она едва слышным голосом. «Отдал». – «Ну?..» Она задыхалась. Я взглянул на нее… Злая радость внезапно вспыхнула во мне. «Он велел вам сказать, – произнес я с расстановкою, – что было, то не будет вновь…» Варя схватилась левой рукой за сердце, протянула правую вперед, покачнулась вся и проворно вышла из комнаты. Я хотел догнать ее… Иван Семеныч остановил меня. Я остался еще часа два у него, но Варя не появлялась. На возвратном пути мне стало совестно… совестно перед Варей, перед Андреем, перед самим собою; хотя, говорят, лучше разом отсечь страдающий член, чем долго томить больного, но кто ж мне дал право так безжалостно поразить сердце бедной девушки?.. Я долго не мог заснуть… но заснул же, наконец. Вообще я должен повторить, что «любовь» ни разу не лишала меня сна.
Я начал ездить к Ивану Семенычу довольно часто; мы виделись по-прежнему с Колосовым, но ни я, ни он не упоминали о Варе. Мои отношения к ней были довольно странного рода. Она привязалась ко мне тою привязанностью, которая исключает всякую возможность любви; она не могла не заметить моего горячего участия и охотно со мной говорила… о чем бы вы думали? – о Колосове, об одном Колосове! Этот человек до того завладел ею, что она как будто не принадлежала самой себе. Я тщетно старался возбудить ее гордость… она или молчала, или говорила, и как! болтала о Колосове. Я тогда и не подозревал, что горе такого рода, болтливое горе, в сущности гораздо истиннее всех молчаливых страданий. Признаюсь, я пережил много горьких мгновений в то время. Я чувствовал, что не в состоянии заменить Колосова; я чувствовал, что прошедшее Вари так полно, так прекрасно… а настоящее так бедно… Я дошел до того, что невольно вздрагивал при словах: «Помните ли…», которыми почти каждая речь ее начиналась. Она немного похудела в первые дни нашего знакомства… но потом опять поправилась и даже повеселела; ее тогда можно было сравнить с раненой, не совсем еще выздоровевшей птичкой. Между тем мое положение становилось невыносимым; самые низкие страсти понемногу завладели душой моей; мне случалось клеветать на Колосова в присутствии Вари. Я решился прекратить такие неестественные отношения. Но как? Расстаться с Варей – я не мог… Объявить ей свою любовь – я не смел; я чувствовал, что не могу пока надеяться на взаимность. Жениться на ней… Эта мысль меня испугала; мне было всего восьмнадцать лет; мне стало страшно так рано «закабалить» всю свою будущность; я вспомнил отца, мне послышались насмешки товарищей, Колосова… Но, говорят, всякая мысль подобна тесту: стоит помять ее хорошенько – всё из нее сделаешь. Я начал по целым дням думать о женитьбе… Я воображал себе, какой благодарностью преисполнится сердце Вари, когда я, товарищ и поверенный Колосова, предложу ей свою руку, зная, что она безнадежно любит другого. Люди опытные, помнится, говаривали мне, что брак по любви – совершенная нелепость; я начал фантазировать: воображал себе наше тихое житье вдвоем, где-нибудь в теплом уголке южной России; мысленно следил за постепенным переходом сердца Вари от благодарности к дружбе, от дружбы к любви… Я давал себе слово тотчас же оставить Москву, университет, забыть всё и всех. Я начал избегать свиданий с Колосовым. Наконец, в одно зимнее ясное утро (накануне Варя как-то особенно меня очаровала) я оделся получше, медленно и торжественно вышел из комнаты, нанял отличного извозчика и поехал к Ивану Семенычу. Варя сидела в зале одна и читала Карамзина. Увидев меня, она тихонько положила книгу на колени и с тревожным любопытством посмотрела мне в лицо: я никогда к ним по утрам не ездил… Я подсел к ней; мучительно билось мое сердце. «Что вы это читаете?» – спросил я, наконец. «Карамзина». – «Что ж? Вас занимает русская…» Она вдруг перебила меня. «Послушайте, вы не от Андрея ли?» Это имя, этот трепетный, вопрошающий голос, полурадостное, полуробкое выражение ее лица, все эти несомненные признаки живучей любви – стрелами впились в мою душу. Я решился или расстаться с Варей, или получить от нее же самой право навсегда согнать с ее губ ненавистное имя Андрея. Я не помню, что я сказал ей тогда; сперва я, должно быть, выражался довольно неясно, потому что она долго меня не понимала; наконец, я не вытерпел и почти закричал: «Я вас люблю, я хочу на вас жениться». – «Вы меня любите?» – с изумлением проговорила Варя. Мне показалось, что она хочет встать, уйти, отказать мне. «Ради бога, – прошептал я задыхаясь, – не отвечайте мне, не говорите мне ни да, ни нет: подумайте; завтра я вернусь за решительным ответом… Я давно вас люблю. Я не требую от вас любви, я хочу быть вашим защитником, вашим другом, не отвечайте мне теперь, не отвечайте… До завтра». С этими словами я бросился вон из комнаты. В передней встретил меня Иван Семеныч и не только не удивился моему посещению, но даже с приятной улыбкой предложил мне яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, что я просто остолбенел. «Возьмите ж яблочко, хорошее яблочко, право!» – твердил Иван Семеныч. Я машинально взял, наконец, яблоко и доехал с ним до дома.
Вы легко себе можете представить, как я провел весь этот день и следующее утро. Эту ночь я спал довольно плохо. «Боже мой! боже мой! – думал я, – если она мне откажет!.. Я погибну… я погибну!.. – повторял я уныло. – Да, она непременно мне откажет… И к чему я так торопился!!.» Желая чем-нибудь развлечь себя, я начал писать письмо к отцу – отчаянное, решительное. Говоря о себе, я употреблял слова: «ваш сын». Бобов ко мне зашел. Я стал плакать на его груди, чему бедный Бобов, вероятно, удивился немало… Я потом узнал, что он приходил ко мне занять денег (хозяин грозился выгнать его из дому); он принужден был – говоря студентским языком – удалиться вспять и обратно… Наконец, настал великий миг. Выходя из комнаты, я остановился в дверях. «С какими чувствами, – подумал я, – перешагну я сегодня этот порог!..» Волнение мое при виде домика Ивана Семеныча было до того сильно, что я слез, достал пригоршню снега и жадно приник к нему лицом. «О господи! – думал я, – если я застану Варю одну, – я пропал!» Ноги мои подкашивались; я едва взобрался на крыльцо. Желанья мои сбылись. Я нашел Варю в гостиной с Матреной Семеновной. Я неловко раскланялся и присел к старухе. Лицо Вари было несколько бледнее обыкновенного… мне показалось, что она старалась избегать моих взоров… Но что сталось со мной, когда Матрена Семеновна вдруг поднялась и пошла в другую комнату!.. Я начал глядеть в окно – я весь внутренно трепетал, как осиновый лист. Варя молчала… Наконец, я преодолел свою робость, подошел к ней, нагнул голову… «Что ж вы мне скажете?» – произнес я замирающим голосом. Варя отвернулась – слезы сверкнули у ней на ресницах. «Я вижу, – продолжал я, – мне нечего надеяться…» Варя стыдливо взглянула кругом и молча подала мне руку. «Варя!» – невольно проговорил я… и остановился, как будто испугавшись собственных надежд. «Поговорите с папенькой», – промолвила она, наконец. «Вы мне позволяете поговорить с Иваном Семенычем?..» – «Да-с». Я осыпал ее руки поцелуями. «Полноте-с, полноте-с», – шептала Варя – и вдруг залилась слезами. Я подсел к ней, уговаривал ее, утирал ее слезы… К счастью, Ивана Семеныча не было дома, а Матрена Семеновна ушла в свою светелку. Я клялся Варе в любви, в верности… «Да, – сказала она, удерживая последние рыдания и беспрестанна утирая слезы, – я знаю, вы хороший человек; вы честный человек; вы не то, что Колосов…» – «Опять это имя!..» – подумал я. Но с каким наслажденьем целовал я эти теплые, сырые ручки! с какой тихой радостью глядел я в это милое лицо!.. Я говорил ей о будущем, ходил по комнате, садился перед ней на полу, закрывал глаза рукой и вздрагивал… Тяжелая походка Ивана Семеныча прервала наш разговор. Варя торопливо встала и ушла к себе – не пожав, однако ж, мне руки, не взглянув на меня. Г-н Сидоренко был еще любезнее вчерашнего: смеялся, потирал себе живот, острил насчет Матрены Семеновны и т. д. Я было хотел тотчас попросить его «благословения», но подумал и отложил до завтра. Его тяжелые шутки мне надоели; притом я чувствовал усталость… Я простился с ним и уехал.