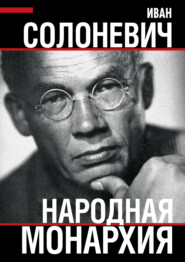По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия в концлагере (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Представьте себе грубо сколоченный дощатый гробообразный ящик, длиной метров в 50 и шириной метров в 8. Посередине одной из длинных сторон прорублена дверь. Посередине каждой из коротких – по окну. Больше окон нет. Стекла выбиты, и дыры позатыканы всякого рода тряпьем. Таков барак с внешней стороны.
Внутри, вдоль длинных сторон барака, тянутся ряды сплошных нар – по два этажа с каждой стороны. В концах барака – по железной печурке, из тех, что зовутся времянками, румынками, буржуйками, – нехитрое и, кажется, единственное изобретение эпохи военного коммунизма. Днем это изобретение не топится вовсе, ибо предполагается, что все население барака должно пребывать на работе. Ночью над этим изобретением сушится и тлеет бесконечное и безымянное вшивое тряпье – все, чем только можно обмотать человеческое тело, лишенное обычной человеческой одежды.
Печурка топится всю ночь. В радиусе трех метров от нее нельзя стоять, в расстоянии десяти метров замерзает вода. Бараки сколочены наспех из сырых сосновых досок. Доски рассохлись, в стенах – щели, в одну из ближайших к моему ложу я свободно просовывал кулак. Щели забиваются всякого рода тряпьем, но его мало, да и во время периодических обысков ВОХР тряпье это выковыривает вон, и ветер снова разгуливает по бараку. Барак освещен двумя керосиновыми коптилками, долженствующими освещать хотя бы окрестности печурок. Но так как стекол нет, то лампочки мигают этакими одинокими светлячками. По вечерам, когда барак начинает наполняться пришедшей с работы мокрой толпой (барак в среднем расчитан на 300 человек), эти коптилки играют только роль маяков, указующих иззябшему лагернику путь к печурке сквозь клубы морозного пара и махорочного дыма.
Из мебели – на барак полагается два длинных, метров по десять, стола и четыре таких же скамейки. Вот и все.
И вот мы, после ряда приключений и передряг, угнездились наконец на нарах, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая их, ибо по всему бараку шныряли урки, и смотрим на человеческое месиво, с криками, руганью и драками расползающееся по темным закоулкам барака.
Повторяю, на воле я видал бараки и похуже. Но этот оставил особо отвратительное впечатление. Бараки на подмосковных торфяниках были намного хуже уже по одному тому, что они были семейные. Или землянки рабочих в Донбассе. Но там походишь, посмотришь, выйдешь на воздух, вдохнешь полной грудью и скажешь: ну-ну, вот тебе и отечество трудящихся… А здесь придется не смотреть, а жить. «Две разницы»… Одно – когда зуб болит у ближнего вашего, другое – когда вам не дает житья ваше дупло…
Мне почему-то вспомнились прения и комиссии по проектированию новых городов. Проектировался новый социалистический Магнитогорск – тоже не многим замечательнее ББК. Барак для мужчин, барак для женщин. Кабинки для выполнения функций по воспроизводству социалистической рабочей силы… Дети забираются и родителей знать не должны. Ну и так далее. Я обозвал эти «функции» социалистическим стойлом. Автор проекта, небезызвестный Сабсович
, обиделся сильно, и я уже подготовлялся было к значительным неприятностям, когда в защиту социалистических производителей выступила Крупская, и проект был объявлен «левым загибом». Или, говоря точнее, «левацким загибом». Коммунисты не могут допустить, чтобы в этом мире было что-нибудь, стоящее левее их. Для спасения девственности коммунистической левизны пущен в обращение термин «левацкий». Ежели уклон вправо – так это будет «правый уклон». А ежели влево – так это будет уже «левацкий». И причем не уклон, а «загиб»…
Не знаю, куда загнули в лагере: вправо или в «левацкую» сторону. Но прожить в этакой грязи, вони, тесноте, вшах, холоде и голоде целых полгода? О господи!..
Мои не очень оптимистические размышления прервал чей-то пронзительный крик:
– Братишки… обокрали… Братишечки, помогите…
По тону слышно, что украли последнее. Но как тут поможешь?.. Тьма, толпа, и в толпе змейками шныряют урки. Крик тонет в общем шуме и в заботах о своей собственной шкуре и о своем собственном мешке… Сквозь дыры потолка на нас мирно капает тающий снег…
Юра вдруг почему-то засмеялся.
– Ты это чего?
– Вспомнил Фредди. Вот его бы сюда…
Фред – наш московский знакомый – весьма дипломатический иностранец. Плохо поджаренные утренние гренки портят ему настроение на весь день… Его бы сюда? Повесился бы.
– Конечно, повесился бы, – убежденно говорит Юра.
А мы вот не вешаемся. Вспоминаю свои ночлеги на крыше вагона, на Лаптарском перевале и даже в туркестанской «красной Чай-Ханэ»… Ничего – жив…
Баня и бушлат
Около часу ночи нас разбудили крики:
– А ну вставай в баню!..
В бараке стояло человек тридцать вохровцев: никак не отвертеться… Спать хотелось смертельно. Только что как-то обогрелись, плотно прижавшись друг к другу и накрывшись всем чем можно. Только что начали дремать – и вот… Точно не могли другого времени найти для бани.
Мы топаем куда-то версты за три, к какому-то полустанку, около которого имеется баня. В лагере с баней строго. Лагерь боится эпидемий, и «санитарная обработка» лагерников производится с беспощадной неуклонностью. Принципиально бани устроены неплохо: вы входите, раздеваетесь, сдаете платье на хранение, а белье – на обмен на чистое. После мытья выходите в другое помещение, получаете платье и чистое белье. Платье, кроме того, пропускается и через дезинфекционную камеру. Бани фактически поддерживают некоторую физическую чистоту. Мыло, во всяком случае, дают, а на коломенском заводе
даже повара месяцами обходились без мыла: не было…
Но скученность и тряпье делают борьбу «со вшой» делом безнадежным… Она плодится и множится, обгоняя всякие плановые цифры.
Мы ждем около часу в очереди, на дворе разумеется. Потом, в предбаннике, двое юнцов с тупыми машинками лишают нас всяких волосяных покровов, в том числе и тех, с которыми обычные «мирские» парикмахеры дела никакого не имеют. Потом, после проблематического мытья – не хватило горячей воды, – нас выпихивают в какую-то примостившуюся около бани палатку, где так же холодно, как и на дворе…
Белье мы получаем только через полчаса, а платье из дезинфекции – через час. Мы мерзнем так, как и в теплушке не мерзли… Мой сосед по нарам поплатился воспалением легких. Мы втроем целый час усиленно занимались боксерской тренировкой – то, что называется «бой с тенью», и выскочили благополучно.
После бани, дрожа от холода и не попадая зубом на зуб, мы направляемся в лагерную каптерку, где нам будут выдавать лагерное обмундирование. ББК – лагерь привилегированный. Его Подпорожское отделение объявлено сверхударной стройкой – постройка гидростанции на реке Свири. Следовательно, на какое-то обмундирование действительно рассчитывать можно.
Снова очередь у какого-то огромного сарая, изнутри освещенного электричеством. У дверей – «попка» с винтовкой. Мы отбиваемся от толпы, подходим к попке, и я говорю авторитетным тоном:
– Товарищ – вот этих двух пропустите…
И сам ухожу.
Попка пропускает Юру и Бориса.
Через пять минут я снова подхожу к дверям:
– Вызовите мне Синельникова…
Попка чувствует: начальство.
– Я, товарищ, не могу… Мне здесь приказано стоять, зайдите сами…
И я захожу. В сарае все-таки теплее, чем на дворе…
Сарай набит плотной толпой. Где-то в глубине его – прилавок, над прилавком мелькают какие-то одеяния и слышен неистовый гвалт. По закону каждый новый лагерник должен получить новое казенное обмундирование, все с ног до головы. Но обмундирования вообще на хватает, а нового – тем более. В исключительных случаях выдается «первый срок», т. е. совсем новые вещи, чаще – «второй срок»: старое, но не рваное. И в большинстве случаев – «третий срок»: старое и рваное. Приблизительно половина новых лагерников не получает вовсе ничего – работает в своем собственном…
За прилавком мечутся человек пять каких-то каптеров, за отдельным столиком сидит некто вроде заведующего. Он-то и устанавливает, что кому дать и какого срока. Получатели торгуются и с ним, и с каптерами, демонстрируют «собственную» рвань, умоляют дать что-нибудь поцелее и потеплее. Глаз завсклада пронзителен и неумолим, и приговоры его, по-видимому, обжалованию не подлежат.
– Ну тебя по роже видно, что промотчик
, – говорит он какому-то урке. – Катись катышком.
– Товарищ начальник!.. Ей-богу…
– Катись, катись, говорят тебе. Следующий.
«Следующий» нажимает на урку плечом. Урка кроет матом. Но он уже отжат от прилавка, и ему только и остается что на почтительной дистанции потрясать кулаками и позорить завскладовских родителей. Перед завскладом стоит огромный и совершенно оборванный мужик.
– Ну тебя, сразу видно, мать без рубашки родила. Так с тех пор без рубашки и ходишь? Совсем голый… Когда это вас, сукиных детей, научат – как берут в ГПУ, так сразу бери из дому все, что есть.
– Гражданин начальник, – взывает крестьянин, – и дома, почитай, голые ходим. Детишкам, стыдно сказать, срамоту прикрыть нечем…
– Ничего, не плачь, и детишек скоро сюда заберут.
Крестьянин получает второго и третьего срока бушлат, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома, действительно, он так одет не был. У стола появляется еще один урка.
– А, мое вам почтение, – иронически приветствует его зав.
– Здравствуйте вам, – с неубедительной развязностью отвечает урка.
Внутри, вдоль длинных сторон барака, тянутся ряды сплошных нар – по два этажа с каждой стороны. В концах барака – по железной печурке, из тех, что зовутся времянками, румынками, буржуйками, – нехитрое и, кажется, единственное изобретение эпохи военного коммунизма. Днем это изобретение не топится вовсе, ибо предполагается, что все население барака должно пребывать на работе. Ночью над этим изобретением сушится и тлеет бесконечное и безымянное вшивое тряпье – все, чем только можно обмотать человеческое тело, лишенное обычной человеческой одежды.
Печурка топится всю ночь. В радиусе трех метров от нее нельзя стоять, в расстоянии десяти метров замерзает вода. Бараки сколочены наспех из сырых сосновых досок. Доски рассохлись, в стенах – щели, в одну из ближайших к моему ложу я свободно просовывал кулак. Щели забиваются всякого рода тряпьем, но его мало, да и во время периодических обысков ВОХР тряпье это выковыривает вон, и ветер снова разгуливает по бараку. Барак освещен двумя керосиновыми коптилками, долженствующими освещать хотя бы окрестности печурок. Но так как стекол нет, то лампочки мигают этакими одинокими светлячками. По вечерам, когда барак начинает наполняться пришедшей с работы мокрой толпой (барак в среднем расчитан на 300 человек), эти коптилки играют только роль маяков, указующих иззябшему лагернику путь к печурке сквозь клубы морозного пара и махорочного дыма.
Из мебели – на барак полагается два длинных, метров по десять, стола и четыре таких же скамейки. Вот и все.
И вот мы, после ряда приключений и передряг, угнездились наконец на нарах, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая их, ибо по всему бараку шныряли урки, и смотрим на человеческое месиво, с криками, руганью и драками расползающееся по темным закоулкам барака.
Повторяю, на воле я видал бараки и похуже. Но этот оставил особо отвратительное впечатление. Бараки на подмосковных торфяниках были намного хуже уже по одному тому, что они были семейные. Или землянки рабочих в Донбассе. Но там походишь, посмотришь, выйдешь на воздух, вдохнешь полной грудью и скажешь: ну-ну, вот тебе и отечество трудящихся… А здесь придется не смотреть, а жить. «Две разницы»… Одно – когда зуб болит у ближнего вашего, другое – когда вам не дает житья ваше дупло…
Мне почему-то вспомнились прения и комиссии по проектированию новых городов. Проектировался новый социалистический Магнитогорск – тоже не многим замечательнее ББК. Барак для мужчин, барак для женщин. Кабинки для выполнения функций по воспроизводству социалистической рабочей силы… Дети забираются и родителей знать не должны. Ну и так далее. Я обозвал эти «функции» социалистическим стойлом. Автор проекта, небезызвестный Сабсович
, обиделся сильно, и я уже подготовлялся было к значительным неприятностям, когда в защиту социалистических производителей выступила Крупская, и проект был объявлен «левым загибом». Или, говоря точнее, «левацким загибом». Коммунисты не могут допустить, чтобы в этом мире было что-нибудь, стоящее левее их. Для спасения девственности коммунистической левизны пущен в обращение термин «левацкий». Ежели уклон вправо – так это будет «правый уклон». А ежели влево – так это будет уже «левацкий». И причем не уклон, а «загиб»…
Не знаю, куда загнули в лагере: вправо или в «левацкую» сторону. Но прожить в этакой грязи, вони, тесноте, вшах, холоде и голоде целых полгода? О господи!..
Мои не очень оптимистические размышления прервал чей-то пронзительный крик:
– Братишки… обокрали… Братишечки, помогите…
По тону слышно, что украли последнее. Но как тут поможешь?.. Тьма, толпа, и в толпе змейками шныряют урки. Крик тонет в общем шуме и в заботах о своей собственной шкуре и о своем собственном мешке… Сквозь дыры потолка на нас мирно капает тающий снег…
Юра вдруг почему-то засмеялся.
– Ты это чего?
– Вспомнил Фредди. Вот его бы сюда…
Фред – наш московский знакомый – весьма дипломатический иностранец. Плохо поджаренные утренние гренки портят ему настроение на весь день… Его бы сюда? Повесился бы.
– Конечно, повесился бы, – убежденно говорит Юра.
А мы вот не вешаемся. Вспоминаю свои ночлеги на крыше вагона, на Лаптарском перевале и даже в туркестанской «красной Чай-Ханэ»… Ничего – жив…
Баня и бушлат
Около часу ночи нас разбудили крики:
– А ну вставай в баню!..
В бараке стояло человек тридцать вохровцев: никак не отвертеться… Спать хотелось смертельно. Только что как-то обогрелись, плотно прижавшись друг к другу и накрывшись всем чем можно. Только что начали дремать – и вот… Точно не могли другого времени найти для бани.
Мы топаем куда-то версты за три, к какому-то полустанку, около которого имеется баня. В лагере с баней строго. Лагерь боится эпидемий, и «санитарная обработка» лагерников производится с беспощадной неуклонностью. Принципиально бани устроены неплохо: вы входите, раздеваетесь, сдаете платье на хранение, а белье – на обмен на чистое. После мытья выходите в другое помещение, получаете платье и чистое белье. Платье, кроме того, пропускается и через дезинфекционную камеру. Бани фактически поддерживают некоторую физическую чистоту. Мыло, во всяком случае, дают, а на коломенском заводе
даже повара месяцами обходились без мыла: не было…
Но скученность и тряпье делают борьбу «со вшой» делом безнадежным… Она плодится и множится, обгоняя всякие плановые цифры.
Мы ждем около часу в очереди, на дворе разумеется. Потом, в предбаннике, двое юнцов с тупыми машинками лишают нас всяких волосяных покровов, в том числе и тех, с которыми обычные «мирские» парикмахеры дела никакого не имеют. Потом, после проблематического мытья – не хватило горячей воды, – нас выпихивают в какую-то примостившуюся около бани палатку, где так же холодно, как и на дворе…
Белье мы получаем только через полчаса, а платье из дезинфекции – через час. Мы мерзнем так, как и в теплушке не мерзли… Мой сосед по нарам поплатился воспалением легких. Мы втроем целый час усиленно занимались боксерской тренировкой – то, что называется «бой с тенью», и выскочили благополучно.
После бани, дрожа от холода и не попадая зубом на зуб, мы направляемся в лагерную каптерку, где нам будут выдавать лагерное обмундирование. ББК – лагерь привилегированный. Его Подпорожское отделение объявлено сверхударной стройкой – постройка гидростанции на реке Свири. Следовательно, на какое-то обмундирование действительно рассчитывать можно.
Снова очередь у какого-то огромного сарая, изнутри освещенного электричеством. У дверей – «попка» с винтовкой. Мы отбиваемся от толпы, подходим к попке, и я говорю авторитетным тоном:
– Товарищ – вот этих двух пропустите…
И сам ухожу.
Попка пропускает Юру и Бориса.
Через пять минут я снова подхожу к дверям:
– Вызовите мне Синельникова…
Попка чувствует: начальство.
– Я, товарищ, не могу… Мне здесь приказано стоять, зайдите сами…
И я захожу. В сарае все-таки теплее, чем на дворе…
Сарай набит плотной толпой. Где-то в глубине его – прилавок, над прилавком мелькают какие-то одеяния и слышен неистовый гвалт. По закону каждый новый лагерник должен получить новое казенное обмундирование, все с ног до головы. Но обмундирования вообще на хватает, а нового – тем более. В исключительных случаях выдается «первый срок», т. е. совсем новые вещи, чаще – «второй срок»: старое, но не рваное. И в большинстве случаев – «третий срок»: старое и рваное. Приблизительно половина новых лагерников не получает вовсе ничего – работает в своем собственном…
За прилавком мечутся человек пять каких-то каптеров, за отдельным столиком сидит некто вроде заведующего. Он-то и устанавливает, что кому дать и какого срока. Получатели торгуются и с ним, и с каптерами, демонстрируют «собственную» рвань, умоляют дать что-нибудь поцелее и потеплее. Глаз завсклада пронзителен и неумолим, и приговоры его, по-видимому, обжалованию не подлежат.
– Ну тебя по роже видно, что промотчик
, – говорит он какому-то урке. – Катись катышком.
– Товарищ начальник!.. Ей-богу…
– Катись, катись, говорят тебе. Следующий.
«Следующий» нажимает на урку плечом. Урка кроет матом. Но он уже отжат от прилавка, и ему только и остается что на почтительной дистанции потрясать кулаками и позорить завскладовских родителей. Перед завскладом стоит огромный и совершенно оборванный мужик.
– Ну тебя, сразу видно, мать без рубашки родила. Так с тех пор без рубашки и ходишь? Совсем голый… Когда это вас, сукиных детей, научат – как берут в ГПУ, так сразу бери из дому все, что есть.
– Гражданин начальник, – взывает крестьянин, – и дома, почитай, голые ходим. Детишкам, стыдно сказать, срамоту прикрыть нечем…
– Ничего, не плачь, и детишек скоро сюда заберут.
Крестьянин получает второго и третьего срока бушлат, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома, действительно, он так одет не был. У стола появляется еще один урка.
– А, мое вам почтение, – иронически приветствует его зав.
– Здравствуйте вам, – с неубедительной развязностью отвечает урка.