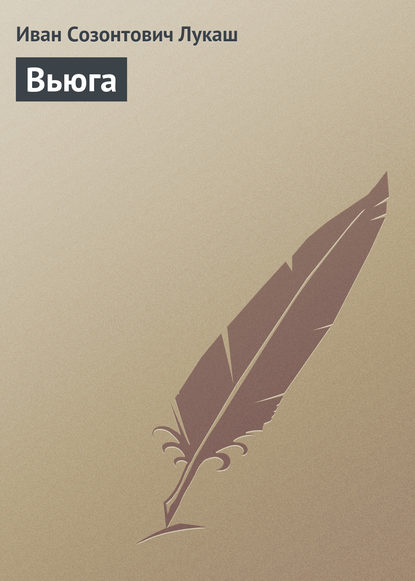По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего вы на нее нападаете? Она-то в чем виновата, что ее привезли?
Мать замолчала. Он вышел из комнаты, и тогда, стуча неуклюжими башмаками, девочка подошла к матери и крепко прижалась лицом к ее руке. Так она молча просила, чтобы ее не выгоняли. Мать отстранила ее, потом привлекла к себе и заплакала.
В тот вечер мать мыла чужую девочку в тазу на кухне, терла ее мочалкой и поливала горячей водой из помятой оловянной кружки, той самой, из какой поливала когда-то Пашку. У девочки было смугловатое худое тело, все ребра можно было пересчитать и позвонки. С закрученной мокрой косичкой на макушке, она стояла в тазу, зажавши руки между колен, жмурилась от мыльной воды.
Мать вычесала ей волосы и заплела такие тугие косицы, что глаза Кати стали раскосыми. Вскоре, закутанная в большой материнский платок, Катя угощалась лепешками из картофельной шелухи, горячим чаем и мелкими кусочками сахара, таившегося у матери в таких закоулках, какие были известны ей одной.
Со стульев в столовой Катя в холодную ночь перебралась на узкий диванчик за занавеску к матери и заснула у нее в ногах, под платком, свернувшись в калачик. Так они стали спать вместе.
От худенького тела чужой девочки, ее тезки, от того, что она глуховата, что такая тихая и послушная, в матери проснулось щемяще-грустное чувство. Может быть, потому, что на лице Кати сиял тот же свет, как на лице Гоги, или что Катя привязалась к ней всей душой, старая мать отдала глухой девочке все свое неутолимое материнство. Катя стала для нее самым дорогим существом на свете, безмолвной маленькой подружкой.
Весь день они копошились вместе, понимая друг друга по взгляду, вместе ходили к Знамению продавать картофельные лепешки и выменивать сахар на крупу. Тихая Катя стала как бы светящейся тенью матери, ее отражением. Мать звала девочку доченькой и Катюшей, а та ее бабынькой.
Пашка чувствовал неясную жалость к девочке, поселившейся в доме, вероятно, тоже из-за ее легкой глухоты, точно отделявшей ее прозрачной стеной от всего мира.
В комнате матери теперь стояла железная печь с выводной трубой, в печи разогревали кирпичи. У матери было тепло и пахло дымом. Пашка приходил сюда греться: во всех других комнатах была стужа, замерзшие окна, пустота. Вся жизнь в доме Маркушиных сдвинулась к матери.
Кожаный диван в углу за ширмами, книги на полу, пальто, отцовские сюртуки на сундуке, там же его сапоги, лампа из столовой под матовым абажуром, вещи со всего дома, какие еще остались, втиснулись в материнский чулан. Пашка замечал здесь кресла, ободранные развалины, каких не видел раньше, какой-то экран с полинявшим охотником и оленем, торчащий из-за шкафа, и было все это таким, точно старые вещи чувствовали, как теперь трудно хозяевам, и хотели еще уютнее, еще теплее защитить их. На материнском кресле Пашка любил думать.
В кружке света от печки, глядя на огонь, сидела на полу Катя, маленький Костя, сын Ольги, возился с трехногой папочной лошадью.
Пашка сел к ним на пол. Из большого листа «Известий», с запахом керосина, с противными словами без «?», с отвратительными прозвищами: исполком, ревком, ЦИК, и отвратительными, злыми, чем-то бесстыдными именами: Свирский, Склянский, Шлейхер, Урицкий – он молча стал вырезывать большими материнскими ножницами плясуна, длинноногого дрожащего человечка, с вихляющимися руками и ногами.
Он потряс им над печкой.
– Хорошо?
В поднятых глазах Кати дрогнул огонь, она улыбнулась:
– Да, хорошо.
А он подумал, что непременно все станет таким, каким было раньше, что коммуна, «Известия», красные звезды, жмыхи, железная печка, комиссары, Склянские, Шлейхеры, постановления ЦИКа, аресты, расстрелы случайно нашли на жизнь и так же сойдут. И когда будет та, настоящая жизнь, какую он помнил, какая была при отце, до марта, когда вернется живая жизнь, тогда, без сомнения, откроют снова магазин «Детский рай», и он, если будет богатый, обязательно заберет там все игрушки для Кати и Кости.
Исчезновение игрушечной лавки показалось ему такой несправедливостью, нестерпимой, лютой, точно убили самое волшебное, доброе существо на свете.
Он упрямо тряхнул головой и стал вырезать из «Известий» второго длинноногого плясуна для Кости.
Глава XII
В светлый зимний день мать сказала:
– А ты знаешь, приехала Аглая и Любочка. У Аглаи уже дочка.
Пашку обрадовало нечаянное известие. Никогда не забывал он чернобровую девочку, строгую Любу.
Он побежал к Сафоновым вниз. Ему открыла сама Люба. Сначала он не узнал ее, как будто не год, а век прошел, как они прощались. Она вытянулась, стала тоненькой, ее темная коса, перекинутая на грудь, мягко лежала у плеча. Необыкновенно светилось ее тонкое и строгое лицо. Ее девической красоты он и не узнал, смутился очень.
Люба взглянула на него радостно, насмешливо, точно они виделись только вчера, и сказала, сдвигая брови:
– Здравствуйте, Паша. Однако вы и свинья.
Пашка вспыхнул, обиделся:
– Хорошенькая встреча.
Люба уже закрыла за ним дверь на цепочку:
– Конечно, свинья. Почему никто, кроме вашей мамы, ни разу не был у папы? А еще родственники. Вы все, Маркушины, такие.
Пашка, правда, как-то забыл, что под ними живет лысый штабс-капитан, отец Любы Сафоновой, до глубокой осени ходивший через двор в одной военной тужурке. Впрочем, он также забыл и о Вегенере, кого не видел целую вечность.
– Пусть я свинья, – согласился он, насупясь. – Но у нас здесь столько произошло, эта революция, коммуна, что у меня из головы вон…
На этом они помирились, и Люба позвала его на Николаевский вокзал помочь дотащить коробки из багажа. Пашка увидел Аглаю в соседней комнате. Она снимала белые гамаши со своей девочки. Та сидела на столе и что-то лепетала. Аглая показалась ему озабоченной и осунувшейся. Капитана дома не было.
У Николаевского моста подросткам стали попадаться прохожие. На шестой линии, рядом с шоколадным магазином «Конради», теперь пустым и замерзшим, около темной ямы, где прежде на углу был образ, стоял на студеном ветре старик, повязанный платком, в ветоши с форменными пуговицами. Старик с жалобным бормотаньем протянул им руку. Пашка подумал, что старику еще труднее, чем Любе или ему. Но подать было нечего.
Набережная около Академии художеств была в покатом льду. У моста лежала конская падаль.
От бескормицы кони валялись всюду, точно по городу проскакала атака, оставившая жертвы. Набережная была пуста до самого Университета, едва красневшего вдали.
Эта пустота и падаль особенно поражали Пашку. Замерзший конь был в инее, как в серебряной седине, к стертым подковам пристали черные соломинки. И странно, каждый конь напоминал ему чем-то убитого Гогу. В зрелище смерти была какая-то повелевающая немота. Конь был с вытянутыми ногами в связках сухожилий, коричневые, как у старого курильщика, зубы оскалены; серая губа в волосках отвисла.
Через пустой, заваленный снегом Александровский сад подростки вышли на Невский. Проспект открылся им пустой, потемневший, грязный, умолкший.
– Вот как пропал Петербург, – строго сказала Люба. – И не узнать.
У заколоченных магазинов, вдоль тротуара, стали попадаться торговки, дамы с посиневшими лицами, в шляпках, в облезших горжетках и прорванных перчатках. На тарелках, прикрытых платками, у них были лепешки из картофеля, папиросы. Студент Путейского института в хорошей шинели с барашковым воротником, но в разношенных сапогах с кривыми каблуками продавал газеты. Все перетаптывали ногами, терли уши. Они стояли с нищенской снедью, покуда их не сгонят солдаты в долгополых шинелях с винтовками, пикеты милиции, которым приказано вольную торговлю сгонять.
Люба шла так быстро, что Пашка иногда пускался вприпрыжку. Люба бежала мимо голодных людей, вдоль обмерзших стен, запертых ставен.
– Ненавижу, – обернулась она к Пашке, сильно, быстро дыша. – Я просто по улице ходить не могу. Я всех ненавижу.
Она посмотрела на белобрысого путейского студента с газетами:
– Ну зачем он газеты продает?
– Вот странно. Когда все перевернулось, надо чем-нибудь жить.
– Чем-нибудь. Лучше не надо жить… Это ужасно, какие все вдруг жалкие стали. Всему поддаются. Ужасно неправильно, что офицер становится сапожником, студент газетчиком, другие милостыню просят. Их живьем морят, а они топчутся тут, ежатся, все терпят. Я их терпение ненавижу. Они ничтожные стали, понимаете, точно жалость к себе вызвать хотят. И у кого? У своих живодеров.
Стремительная, с шевелящимися бровями, Люба побледнела от гнева:
– Большевики правы, что таких гонят. Так и надо, когда ничего не могут отстоять…
Две сухопарые дамы, может быть, институтские наставницы, в старомодных шляпках, голодные, посиневшие, продавали старые лакированные ботинки девятисотых годов, с острыми носками, как на покойника, и потихоньку просили милостыню.
Подальше стояла еще дама в шляпе с искусственным цветком. Шляпа обвисла от снега, был виден из-под нее кусок морщинистой щеки и крупный нос. Она была рослая, в вязаном шарфе, с большими красными руками и большими ногами в мужских сапогах. Прижавши руки к груди, она декламировала что-то. Может быть, это была старая певица или актриса на пенсии, может быть, сумасшедшая.
Мать замолчала. Он вышел из комнаты, и тогда, стуча неуклюжими башмаками, девочка подошла к матери и крепко прижалась лицом к ее руке. Так она молча просила, чтобы ее не выгоняли. Мать отстранила ее, потом привлекла к себе и заплакала.
В тот вечер мать мыла чужую девочку в тазу на кухне, терла ее мочалкой и поливала горячей водой из помятой оловянной кружки, той самой, из какой поливала когда-то Пашку. У девочки было смугловатое худое тело, все ребра можно было пересчитать и позвонки. С закрученной мокрой косичкой на макушке, она стояла в тазу, зажавши руки между колен, жмурилась от мыльной воды.
Мать вычесала ей волосы и заплела такие тугие косицы, что глаза Кати стали раскосыми. Вскоре, закутанная в большой материнский платок, Катя угощалась лепешками из картофельной шелухи, горячим чаем и мелкими кусочками сахара, таившегося у матери в таких закоулках, какие были известны ей одной.
Со стульев в столовой Катя в холодную ночь перебралась на узкий диванчик за занавеску к матери и заснула у нее в ногах, под платком, свернувшись в калачик. Так они стали спать вместе.
От худенького тела чужой девочки, ее тезки, от того, что она глуховата, что такая тихая и послушная, в матери проснулось щемяще-грустное чувство. Может быть, потому, что на лице Кати сиял тот же свет, как на лице Гоги, или что Катя привязалась к ней всей душой, старая мать отдала глухой девочке все свое неутолимое материнство. Катя стала для нее самым дорогим существом на свете, безмолвной маленькой подружкой.
Весь день они копошились вместе, понимая друг друга по взгляду, вместе ходили к Знамению продавать картофельные лепешки и выменивать сахар на крупу. Тихая Катя стала как бы светящейся тенью матери, ее отражением. Мать звала девочку доченькой и Катюшей, а та ее бабынькой.
Пашка чувствовал неясную жалость к девочке, поселившейся в доме, вероятно, тоже из-за ее легкой глухоты, точно отделявшей ее прозрачной стеной от всего мира.
В комнате матери теперь стояла железная печь с выводной трубой, в печи разогревали кирпичи. У матери было тепло и пахло дымом. Пашка приходил сюда греться: во всех других комнатах была стужа, замерзшие окна, пустота. Вся жизнь в доме Маркушиных сдвинулась к матери.
Кожаный диван в углу за ширмами, книги на полу, пальто, отцовские сюртуки на сундуке, там же его сапоги, лампа из столовой под матовым абажуром, вещи со всего дома, какие еще остались, втиснулись в материнский чулан. Пашка замечал здесь кресла, ободранные развалины, каких не видел раньше, какой-то экран с полинявшим охотником и оленем, торчащий из-за шкафа, и было все это таким, точно старые вещи чувствовали, как теперь трудно хозяевам, и хотели еще уютнее, еще теплее защитить их. На материнском кресле Пашка любил думать.
В кружке света от печки, глядя на огонь, сидела на полу Катя, маленький Костя, сын Ольги, возился с трехногой папочной лошадью.
Пашка сел к ним на пол. Из большого листа «Известий», с запахом керосина, с противными словами без «?», с отвратительными прозвищами: исполком, ревком, ЦИК, и отвратительными, злыми, чем-то бесстыдными именами: Свирский, Склянский, Шлейхер, Урицкий – он молча стал вырезывать большими материнскими ножницами плясуна, длинноногого дрожащего человечка, с вихляющимися руками и ногами.
Он потряс им над печкой.
– Хорошо?
В поднятых глазах Кати дрогнул огонь, она улыбнулась:
– Да, хорошо.
А он подумал, что непременно все станет таким, каким было раньше, что коммуна, «Известия», красные звезды, жмыхи, железная печка, комиссары, Склянские, Шлейхеры, постановления ЦИКа, аресты, расстрелы случайно нашли на жизнь и так же сойдут. И когда будет та, настоящая жизнь, какую он помнил, какая была при отце, до марта, когда вернется живая жизнь, тогда, без сомнения, откроют снова магазин «Детский рай», и он, если будет богатый, обязательно заберет там все игрушки для Кати и Кости.
Исчезновение игрушечной лавки показалось ему такой несправедливостью, нестерпимой, лютой, точно убили самое волшебное, доброе существо на свете.
Он упрямо тряхнул головой и стал вырезать из «Известий» второго длинноногого плясуна для Кости.
Глава XII
В светлый зимний день мать сказала:
– А ты знаешь, приехала Аглая и Любочка. У Аглаи уже дочка.
Пашку обрадовало нечаянное известие. Никогда не забывал он чернобровую девочку, строгую Любу.
Он побежал к Сафоновым вниз. Ему открыла сама Люба. Сначала он не узнал ее, как будто не год, а век прошел, как они прощались. Она вытянулась, стала тоненькой, ее темная коса, перекинутая на грудь, мягко лежала у плеча. Необыкновенно светилось ее тонкое и строгое лицо. Ее девической красоты он и не узнал, смутился очень.
Люба взглянула на него радостно, насмешливо, точно они виделись только вчера, и сказала, сдвигая брови:
– Здравствуйте, Паша. Однако вы и свинья.
Пашка вспыхнул, обиделся:
– Хорошенькая встреча.
Люба уже закрыла за ним дверь на цепочку:
– Конечно, свинья. Почему никто, кроме вашей мамы, ни разу не был у папы? А еще родственники. Вы все, Маркушины, такие.
Пашка, правда, как-то забыл, что под ними живет лысый штабс-капитан, отец Любы Сафоновой, до глубокой осени ходивший через двор в одной военной тужурке. Впрочем, он также забыл и о Вегенере, кого не видел целую вечность.
– Пусть я свинья, – согласился он, насупясь. – Но у нас здесь столько произошло, эта революция, коммуна, что у меня из головы вон…
На этом они помирились, и Люба позвала его на Николаевский вокзал помочь дотащить коробки из багажа. Пашка увидел Аглаю в соседней комнате. Она снимала белые гамаши со своей девочки. Та сидела на столе и что-то лепетала. Аглая показалась ему озабоченной и осунувшейся. Капитана дома не было.
У Николаевского моста подросткам стали попадаться прохожие. На шестой линии, рядом с шоколадным магазином «Конради», теперь пустым и замерзшим, около темной ямы, где прежде на углу был образ, стоял на студеном ветре старик, повязанный платком, в ветоши с форменными пуговицами. Старик с жалобным бормотаньем протянул им руку. Пашка подумал, что старику еще труднее, чем Любе или ему. Но подать было нечего.
Набережная около Академии художеств была в покатом льду. У моста лежала конская падаль.
От бескормицы кони валялись всюду, точно по городу проскакала атака, оставившая жертвы. Набережная была пуста до самого Университета, едва красневшего вдали.
Эта пустота и падаль особенно поражали Пашку. Замерзший конь был в инее, как в серебряной седине, к стертым подковам пристали черные соломинки. И странно, каждый конь напоминал ему чем-то убитого Гогу. В зрелище смерти была какая-то повелевающая немота. Конь был с вытянутыми ногами в связках сухожилий, коричневые, как у старого курильщика, зубы оскалены; серая губа в волосках отвисла.
Через пустой, заваленный снегом Александровский сад подростки вышли на Невский. Проспект открылся им пустой, потемневший, грязный, умолкший.
– Вот как пропал Петербург, – строго сказала Люба. – И не узнать.
У заколоченных магазинов, вдоль тротуара, стали попадаться торговки, дамы с посиневшими лицами, в шляпках, в облезших горжетках и прорванных перчатках. На тарелках, прикрытых платками, у них были лепешки из картофеля, папиросы. Студент Путейского института в хорошей шинели с барашковым воротником, но в разношенных сапогах с кривыми каблуками продавал газеты. Все перетаптывали ногами, терли уши. Они стояли с нищенской снедью, покуда их не сгонят солдаты в долгополых шинелях с винтовками, пикеты милиции, которым приказано вольную торговлю сгонять.
Люба шла так быстро, что Пашка иногда пускался вприпрыжку. Люба бежала мимо голодных людей, вдоль обмерзших стен, запертых ставен.
– Ненавижу, – обернулась она к Пашке, сильно, быстро дыша. – Я просто по улице ходить не могу. Я всех ненавижу.
Она посмотрела на белобрысого путейского студента с газетами:
– Ну зачем он газеты продает?
– Вот странно. Когда все перевернулось, надо чем-нибудь жить.
– Чем-нибудь. Лучше не надо жить… Это ужасно, какие все вдруг жалкие стали. Всему поддаются. Ужасно неправильно, что офицер становится сапожником, студент газетчиком, другие милостыню просят. Их живьем морят, а они топчутся тут, ежатся, все терпят. Я их терпение ненавижу. Они ничтожные стали, понимаете, точно жалость к себе вызвать хотят. И у кого? У своих живодеров.
Стремительная, с шевелящимися бровями, Люба побледнела от гнева:
– Большевики правы, что таких гонят. Так и надо, когда ничего не могут отстоять…
Две сухопарые дамы, может быть, институтские наставницы, в старомодных шляпках, голодные, посиневшие, продавали старые лакированные ботинки девятисотых годов, с острыми носками, как на покойника, и потихоньку просили милостыню.
Подальше стояла еще дама в шляпе с искусственным цветком. Шляпа обвисла от снега, был виден из-под нее кусок морщинистой щеки и крупный нос. Она была рослая, в вязаном шарфе, с большими красными руками и большими ногами в мужских сапогах. Прижавши руки к груди, она декламировала что-то. Может быть, это была старая певица или актриса на пенсии, может быть, сумасшедшая.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67