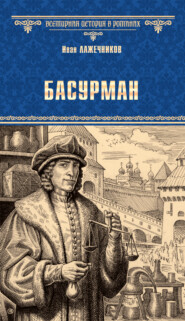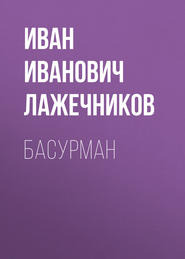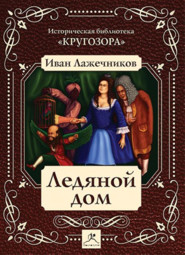По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Внучка панцирного боярина
Автор
Год написания книги
1868
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Внучка панцирного боярина
Иван Иванович Лажечников
«Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре…»
Иван Лажечников
Внучка панцирного боярина
Посвящается Ал. Ал. Леб…вой
Часть первая
I
Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре. Не занимали его любопытства выставленные в окнах магазинов роскошные вещицы, отчасти выписанные из-за границы, отчасти делаемые в России под именем иностранных. Продавцы их, тоже иноземцы, пользуясь пристрастием нашим ко всему заграничному и, может быть, справедливым недоверием к отечественным изделиям, берут с нас за свои товары по 50 процентов на сто. Иные, накопив на Руси богатые капиталы, уезжают восвояси, где в благодарность за наше простодушие бранят на весь свет дикообразную Московию, набившую их карманы своим золотом. Правда, есть благородные исключения. Между прочими справедливо сохранить память одного из них, Депре, который, умирая в Париже, завещал похоронить его прах в Москве, где он нажил свое богатое состояние.
Остановился, однако же, старик против магазина Дациаро, всегда привлекавшего к своим окнам толпу прохожих – отдохнуть ли он хотел, или взглянуть на картины. Вероятно, он был близорук, потому что, уставив глаза в окно, прищурился и наложил ладонь на стекло окна, по которому переливались лучи солнечные. Вскоре подошел другой господин, молодой, и, став подле него, приступил к такому же созерцательному безделью. Хотя на нем было широкое летнее пальто, но в посадке его стана видно было, что он привык носить военный мундир и, вероятно, только что недавно скинул его.
– Ее уже нет, – сказал с грустью старик, качая головой.
– Кого? – спросил его попутчик, посмотрев на него с удивлением.
Старик был, видимо, из таких личностей, которые в минуты особенного настроения души готовы излить ее хоть незнакомцу. По природе ли, или исходивши жизнь под гнетом разных тяжких обстоятельств, или от старости, они склоняются к детству.
– Здесь, – отвечал он, поощряемый к откровенности светлым взглядом и добрым, приятным лицом своего спутника, – была раскрашенная английская гравюра-невеличка, но как много говорила она сердцу! На ней изображена была красивая молодая женщина. У полуобнаженной груди ее лежал младенец. Видно было, она только что откормила его. Ребенок засыпал и сквозь сладкий сон улыбался ангельской улыбкой. Если бы вы видели, как смотрела мать на свое дитя. Любовь и блаженство выражались в голубых глазах ее. Да, сударь, блаженство – это чувство от неба; счастье называю я наслаждением земным.
– Жаль, что я не видел этой картинки, – сказал молодой человек, вглядываясь в старика и занятый более его личностью, чем разговором о картинке.
– Очень жаль, вы потеряли несколько минут самого чистого душевного удовольствия. Однако же, когда я бывал здесь, она мало занимала смотревших на здешнюю выставку. Я был, по-видимому, один, кого она приковывала к себе.
– Ныне ведь нужны предметы более пикантные, раздражающие чувства.
– Так, так. Вот, например, перед нами обнаженные, купающиеся женщины; их сторожит из-за засады деревьев воспламененный взгляд юноши, заметьте – юноши. Он, кажется, хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам.
– У нас ныне, – заметил молодой человек, – не только юношей, но и детей нет.
– А вот эта, налево, ради возбуждения каких страстей? Бандиты со звериными лицами потрошат какого-то путешественника, под ним лужа крови. Далее убийца с топором в руке, с которого капает кровь его жертвы.
– Правда в искусстве – вот лозунг, который задали себе наши писатели и живописцы.
– Прекрасно, но они забывают, что их обязывает другая правда – художественная. Это напоминает мне Каратыгина в драме «Игрок». Он отвратительно намазывал себе руку красной краской, чтобы показать, что на ней кровь – следы совершенного им убийства. Между тем для возбуждения в зрителе чувства ужаса, и без видимых знаков довольно было одних слов артиста, что на руке его кровь. Впрочем, извините болтовню старика, вам незнакомого. Может статься, по-вашему, по-нынешнему, я ошибаюсь, и вам неприятно слушать то, что противно вашим взглядам.
– Напротив, – сказал молодой человек, – хоть ныне только те quasi-убеждения хороши, о которых кричат наши так называемые дети, я слушал вас с большим участием. К тому же, когда я всматривался в вас более и более, меня подмывало сделать вам один вопрос. Он не покажется вам странным, если вы узнаете причину его. Не вспомните ли вы меня? Мое имя Сурмин…
Старик стал пристально всматриваться в лицо своего импровизованного собеседника, бесцеремонно повернув его к свету обеими руками за плечи.
– Хоть убейте, – отвечал он, – ни вашего имени, ни вас не припомню.
– Не мудрено: вы видели меня только один раз. Я был тогда еще очень молодой человек, лет двадцати, только что выпорхнул из гнезда гвардейских юнкеров и оперился в мундире кавалергардского полка. С того времени прошло десять лет. Теперь, я сделался кампаньяром и, как видите, отпустил уже бородку. Служили вы в Приречье вторым лицом по губернской иерархии?
– Точно так.
– Вас зовут Михаил Аполлоныч Ранеев.
– Это имя мое.
– Вот видите, как я вас помню, или, лучше сказать, помнит вас мое сердце. Но я не желаю, чтобы посторонние, останавливающиеся здесь, слышали наш разговор. Вы, кажется, шли в гору Кузнецкого моста?
– Да, я шел к оптику Швабе купить себе зрение. Без очков, которые, к горю моему, по старческой рассеянности затерял, все предметы в природе представляются мне в каком-то недоделанном виде или как будто задернуты флером.
– Мы словно сговорились; кстати, и я иду туда же купить себе барометр. Если вы мне позволите, мы продолжим наш разговор, которым я напомню вам наше часовое знакомство, оставившее глубокие следы в благодарной памяти всего нашего семейства.
– С большим удовольствием.
Они пошли в гору; молодой человек укорачивал шаги, чтобы не утомить своего спутника. Дорогой повели они беседу, как давнишние приятели.
– У матери моей, – начал молодой человек, – было дело, от которого зависела участь всего нашего семейства: ее, меня и двух малолетних сестер моих. За долги частные и процентные в Опекунский Совет, запущенные нашим опекуном, 500-душное имение наше было под запрещением. Вы знаете, что такое наши опеки?
– Слишком хорошо. Я читал отчет одного опекуна над сумасшедшим: был очень богатый барин. В этом отчете, поверите ли, записана была покупка собольего одеяла в шесть тысяч рублей. Я видел, как у малолетних на ремонт дома истрачивались все доходы с имения. Придя в совершенные года, они, разумеется, оставались нищими. Я слыхал, как заводские тысячные лошади продавались полячком-опекуном под покровом воеводы по 50 рублей. Да всех проделок опекунов не перечтешь.
Старик энергически махнул рукой.
– Подобными проделками нашего опекуна, – имя его утаю (скажу только – он даже очень близкий нам родственник), – и наши дела были доведены до того, что Совет назначил наше имение в продажу с аукциона. По просьбе матери, опекун был сменен и она утверждена опекуншей и попечительницей. Что можно было продать из движимого имущества: серебро, бриллианты и разные разности, все ей было продано, добрые люди помогли, частные долги заплачены, сумма в Опекунский Совет собрана. Мы с матерью отправились в Москву, но, чтобы остановить продажу имения, надо было заехать в Приречье. Здесь мы должны были получить из гражданской палаты свидетельство, что оно освободилось от запрещения по частным долгам и казенным повинностям. Наш местный уездный суд уведомил о том все приреченские места, кому надлежало знать. На спрос гражданской палаты эти места, кроме губернского правления, отвечали удовлетворительно. Обращаюсь в правление, показываю номер и число, за которыми послан рапорт суда. Столоначальник отзывается, что рапорта не получено. «Не может быть, – говорю я, – он отправлен с неделю, все другие места получили». – Нам до других мест дела нет, мы не получали, – с сердцем отвечал столоначальник. По молодости лет и неопытности моей, я думал, что если предложу благодарность, так навлеку на себя страшные последствия.
– Хе, хе, хе, видно, молодо-зелено было.
– Так и мерещилось мне дуло пистолета, уставленное в грудь мою. Обращаюсь к советнику, тот же решительный ответ. Обстоятельства были для нас критические; через два дня роковой молоток (я воображал молоток при всяком аукционе) должен был ударить и лишить нас состояния. На него охотники, в том числе и наш бывший опекун, точили уж зубы, заговор между ними был устроен, слазы определены.
– Ох, эти слазы! иной раз у иного начальника при продаже имения сердце болит, что оно продается за бесценок, а против этого ничего не поделаешь.
– Моя мать в отчаянии. Наши приреченские приятели указывают нам на вас, как на единственного человека, который может спасти нас от беды. Лечу к вам, – мне говорят, вы нездоровы, никого не принимаете. Горячо настаиваю у вашего слуги, чтобы он доложил обо мне, говорю: «дело экстренное», – он неумолим. Молодость и отчаяние кипятили мою кровь, я сделался дерзок, возвышаю голос, готов браниться. Вы услыхали наши крупные переговоры, вышли ко мне, извиняетесь, что в шлафроке, спрашиваете, «в чем дело». Объясняю его. Вы выслушиваете меня внимательно, между тем как у вас лицо подергивало от негодования.
– Ого! как вы помните все подробности!
– Немудрено, это были роковые минуты, они не забываются. «Негодяи!» – вырвалось у вас от гнева, и тотчас, несмотря на свое нездоровье, приказываете подать себе одеться, едете со мной в правление на моем калибере, какой мне второпях попался. Здесь, по грозному требованию вашему, рапорт суда отыскан под сукном и в ту же минуту при вас сделано по нем распоряжение. Досталось же от вас порядком столоначальнику, не обошли вы своим замечанием и советника. Мать получает свидетельство из гражданской палаты, скачем с нею в Москву и спасаем имение от продажи. Опоздай один день, – и мы были бы разорены. С легкой руки вашей дела наши пошли в гору, мы живем теперь в полном довольстве и благословляем ваше имя, как нашего благодетеля.
– Очень рад, – сказал Ранеев, видимо просиявший от удовольствия, – очень рад, – повторил он, пожимая руку своего спутника, – что мог, исполняя свой долг, сделать что-нибудь в пользу вашу. Вот видите, как легко человеку, у которого есть какая-нибудь власть, располагать участью людей на добро и зло. Не перечтешь несчастий от сущей безделицы, от того, что иной с высоты своей поленился выслушать внимательно просителя, другой пугнул его в пароксизме воеводского нетерпения. А самоуправство, апатия, продажность… – вот что губит нас.
– Кажется, благодаря духу времени, взяточничество выводится. Поговаривают, что составляются проекты новых судов с гласностью в помощь им. Надо надеяться, что молодые поколения не ударят лицом в грязь.
– Вот это дело другое. Гласность, гласность! великое слово, если оно вместе с тем и дело. Пусть явится во всеоружии истины, хотя бы с грозой, но только не театральной, не с фальшфейером. Не ласкать зло надо, а сокрушать его.
В голосе Ранеева слышалось какое-то ожесточение; забывшись, он говорил громко и потрясал рукой, так что прохожие смотрели на него как на чудака.
– Дай Бог, чтобы скорее состоялись эти суды. Авось либо свежие струи с новыми, честными силами втекут на них, – продолжал он. – Допусти и меня, Боже, дождаться хоть зари этого дня. О тогда, если не задушат этой гласности в ее зародыше те, кому она по грехам их не понравится, я опишу историю одного события в моей жизни на поучение следователям и судьям. Да, друг мой, есть в ней чудеса, которые и не снились нашим мудрецам-обличителям. Сильно боролся я с людской злобой и коварством (только глупая овца лижет руку, которая ведет ее на заклание) и все-таки изнемог в борьбе. Но я, думаю, наскучил вам своими стариковскими иеремиадами. Что ж делать, это мой конек, с которого сойду только на пороге гроба. К тому ж я с первого раза полюбил вас, и потому так с вами откровенен. Кстати, вот и магазин Швабе.
Вошли в магазин. Старика, видно, знали там хорошо. Он протянул хозяину руку, хозяин радостно пожал ее и, приветствуя его с добрым утром, называл превосходительством. Ранеев отозвал его в сторону и стал переговаривать с ним вполголоса. Он не стыдился своей бедности, но и не любил пародировать ей, а предмет его разговора с оптиком казался ему щекотливым при постороннем свидетеле. Дело в том, что он принес в узле спорки богатого шитья с мундира, в котором не имел более надобности, темляки, шарф, и просил тотчас сжечь их, свесить выжигу и променять на очки. Между тем Сурмин старался не слыхать их переговоров и занялся с приказчиком осмотром барометров. Порядочный ком выжиги был скоро принесен и свешен. Хозяин магазина предложил старику выбрать себе очки по глазам. Ранеев сказал номер, который он обыкновенно употреблял, золотые очки были выбраны, испробованы на разных предметах и пришлись совершенно по глазам.
– Как же расчет? – спросил он.
Иван Иванович Лажечников
«Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре…»
Иван Лажечников
Внучка панцирного боярина
Посвящается Ал. Ал. Леб…вой
Часть первая
I
Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре. Не занимали его любопытства выставленные в окнах магазинов роскошные вещицы, отчасти выписанные из-за границы, отчасти делаемые в России под именем иностранных. Продавцы их, тоже иноземцы, пользуясь пристрастием нашим ко всему заграничному и, может быть, справедливым недоверием к отечественным изделиям, берут с нас за свои товары по 50 процентов на сто. Иные, накопив на Руси богатые капиталы, уезжают восвояси, где в благодарность за наше простодушие бранят на весь свет дикообразную Московию, набившую их карманы своим золотом. Правда, есть благородные исключения. Между прочими справедливо сохранить память одного из них, Депре, который, умирая в Париже, завещал похоронить его прах в Москве, где он нажил свое богатое состояние.
Остановился, однако же, старик против магазина Дациаро, всегда привлекавшего к своим окнам толпу прохожих – отдохнуть ли он хотел, или взглянуть на картины. Вероятно, он был близорук, потому что, уставив глаза в окно, прищурился и наложил ладонь на стекло окна, по которому переливались лучи солнечные. Вскоре подошел другой господин, молодой, и, став подле него, приступил к такому же созерцательному безделью. Хотя на нем было широкое летнее пальто, но в посадке его стана видно было, что он привык носить военный мундир и, вероятно, только что недавно скинул его.
– Ее уже нет, – сказал с грустью старик, качая головой.
– Кого? – спросил его попутчик, посмотрев на него с удивлением.
Старик был, видимо, из таких личностей, которые в минуты особенного настроения души готовы излить ее хоть незнакомцу. По природе ли, или исходивши жизнь под гнетом разных тяжких обстоятельств, или от старости, они склоняются к детству.
– Здесь, – отвечал он, поощряемый к откровенности светлым взглядом и добрым, приятным лицом своего спутника, – была раскрашенная английская гравюра-невеличка, но как много говорила она сердцу! На ней изображена была красивая молодая женщина. У полуобнаженной груди ее лежал младенец. Видно было, она только что откормила его. Ребенок засыпал и сквозь сладкий сон улыбался ангельской улыбкой. Если бы вы видели, как смотрела мать на свое дитя. Любовь и блаженство выражались в голубых глазах ее. Да, сударь, блаженство – это чувство от неба; счастье называю я наслаждением земным.
– Жаль, что я не видел этой картинки, – сказал молодой человек, вглядываясь в старика и занятый более его личностью, чем разговором о картинке.
– Очень жаль, вы потеряли несколько минут самого чистого душевного удовольствия. Однако же, когда я бывал здесь, она мало занимала смотревших на здешнюю выставку. Я был, по-видимому, один, кого она приковывала к себе.
– Ныне ведь нужны предметы более пикантные, раздражающие чувства.
– Так, так. Вот, например, перед нами обнаженные, купающиеся женщины; их сторожит из-за засады деревьев воспламененный взгляд юноши, заметьте – юноши. Он, кажется, хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам.
– У нас ныне, – заметил молодой человек, – не только юношей, но и детей нет.
– А вот эта, налево, ради возбуждения каких страстей? Бандиты со звериными лицами потрошат какого-то путешественника, под ним лужа крови. Далее убийца с топором в руке, с которого капает кровь его жертвы.
– Правда в искусстве – вот лозунг, который задали себе наши писатели и живописцы.
– Прекрасно, но они забывают, что их обязывает другая правда – художественная. Это напоминает мне Каратыгина в драме «Игрок». Он отвратительно намазывал себе руку красной краской, чтобы показать, что на ней кровь – следы совершенного им убийства. Между тем для возбуждения в зрителе чувства ужаса, и без видимых знаков довольно было одних слов артиста, что на руке его кровь. Впрочем, извините болтовню старика, вам незнакомого. Может статься, по-вашему, по-нынешнему, я ошибаюсь, и вам неприятно слушать то, что противно вашим взглядам.
– Напротив, – сказал молодой человек, – хоть ныне только те quasi-убеждения хороши, о которых кричат наши так называемые дети, я слушал вас с большим участием. К тому же, когда я всматривался в вас более и более, меня подмывало сделать вам один вопрос. Он не покажется вам странным, если вы узнаете причину его. Не вспомните ли вы меня? Мое имя Сурмин…
Старик стал пристально всматриваться в лицо своего импровизованного собеседника, бесцеремонно повернув его к свету обеими руками за плечи.
– Хоть убейте, – отвечал он, – ни вашего имени, ни вас не припомню.
– Не мудрено: вы видели меня только один раз. Я был тогда еще очень молодой человек, лет двадцати, только что выпорхнул из гнезда гвардейских юнкеров и оперился в мундире кавалергардского полка. С того времени прошло десять лет. Теперь, я сделался кампаньяром и, как видите, отпустил уже бородку. Служили вы в Приречье вторым лицом по губернской иерархии?
– Точно так.
– Вас зовут Михаил Аполлоныч Ранеев.
– Это имя мое.
– Вот видите, как я вас помню, или, лучше сказать, помнит вас мое сердце. Но я не желаю, чтобы посторонние, останавливающиеся здесь, слышали наш разговор. Вы, кажется, шли в гору Кузнецкого моста?
– Да, я шел к оптику Швабе купить себе зрение. Без очков, которые, к горю моему, по старческой рассеянности затерял, все предметы в природе представляются мне в каком-то недоделанном виде или как будто задернуты флером.
– Мы словно сговорились; кстати, и я иду туда же купить себе барометр. Если вы мне позволите, мы продолжим наш разговор, которым я напомню вам наше часовое знакомство, оставившее глубокие следы в благодарной памяти всего нашего семейства.
– С большим удовольствием.
Они пошли в гору; молодой человек укорачивал шаги, чтобы не утомить своего спутника. Дорогой повели они беседу, как давнишние приятели.
– У матери моей, – начал молодой человек, – было дело, от которого зависела участь всего нашего семейства: ее, меня и двух малолетних сестер моих. За долги частные и процентные в Опекунский Совет, запущенные нашим опекуном, 500-душное имение наше было под запрещением. Вы знаете, что такое наши опеки?
– Слишком хорошо. Я читал отчет одного опекуна над сумасшедшим: был очень богатый барин. В этом отчете, поверите ли, записана была покупка собольего одеяла в шесть тысяч рублей. Я видел, как у малолетних на ремонт дома истрачивались все доходы с имения. Придя в совершенные года, они, разумеется, оставались нищими. Я слыхал, как заводские тысячные лошади продавались полячком-опекуном под покровом воеводы по 50 рублей. Да всех проделок опекунов не перечтешь.
Старик энергически махнул рукой.
– Подобными проделками нашего опекуна, – имя его утаю (скажу только – он даже очень близкий нам родственник), – и наши дела были доведены до того, что Совет назначил наше имение в продажу с аукциона. По просьбе матери, опекун был сменен и она утверждена опекуншей и попечительницей. Что можно было продать из движимого имущества: серебро, бриллианты и разные разности, все ей было продано, добрые люди помогли, частные долги заплачены, сумма в Опекунский Совет собрана. Мы с матерью отправились в Москву, но, чтобы остановить продажу имения, надо было заехать в Приречье. Здесь мы должны были получить из гражданской палаты свидетельство, что оно освободилось от запрещения по частным долгам и казенным повинностям. Наш местный уездный суд уведомил о том все приреченские места, кому надлежало знать. На спрос гражданской палаты эти места, кроме губернского правления, отвечали удовлетворительно. Обращаюсь в правление, показываю номер и число, за которыми послан рапорт суда. Столоначальник отзывается, что рапорта не получено. «Не может быть, – говорю я, – он отправлен с неделю, все другие места получили». – Нам до других мест дела нет, мы не получали, – с сердцем отвечал столоначальник. По молодости лет и неопытности моей, я думал, что если предложу благодарность, так навлеку на себя страшные последствия.
– Хе, хе, хе, видно, молодо-зелено было.
– Так и мерещилось мне дуло пистолета, уставленное в грудь мою. Обращаюсь к советнику, тот же решительный ответ. Обстоятельства были для нас критические; через два дня роковой молоток (я воображал молоток при всяком аукционе) должен был ударить и лишить нас состояния. На него охотники, в том числе и наш бывший опекун, точили уж зубы, заговор между ними был устроен, слазы определены.
– Ох, эти слазы! иной раз у иного начальника при продаже имения сердце болит, что оно продается за бесценок, а против этого ничего не поделаешь.
– Моя мать в отчаянии. Наши приреченские приятели указывают нам на вас, как на единственного человека, который может спасти нас от беды. Лечу к вам, – мне говорят, вы нездоровы, никого не принимаете. Горячо настаиваю у вашего слуги, чтобы он доложил обо мне, говорю: «дело экстренное», – он неумолим. Молодость и отчаяние кипятили мою кровь, я сделался дерзок, возвышаю голос, готов браниться. Вы услыхали наши крупные переговоры, вышли ко мне, извиняетесь, что в шлафроке, спрашиваете, «в чем дело». Объясняю его. Вы выслушиваете меня внимательно, между тем как у вас лицо подергивало от негодования.
– Ого! как вы помните все подробности!
– Немудрено, это были роковые минуты, они не забываются. «Негодяи!» – вырвалось у вас от гнева, и тотчас, несмотря на свое нездоровье, приказываете подать себе одеться, едете со мной в правление на моем калибере, какой мне второпях попался. Здесь, по грозному требованию вашему, рапорт суда отыскан под сукном и в ту же минуту при вас сделано по нем распоряжение. Досталось же от вас порядком столоначальнику, не обошли вы своим замечанием и советника. Мать получает свидетельство из гражданской палаты, скачем с нею в Москву и спасаем имение от продажи. Опоздай один день, – и мы были бы разорены. С легкой руки вашей дела наши пошли в гору, мы живем теперь в полном довольстве и благословляем ваше имя, как нашего благодетеля.
– Очень рад, – сказал Ранеев, видимо просиявший от удовольствия, – очень рад, – повторил он, пожимая руку своего спутника, – что мог, исполняя свой долг, сделать что-нибудь в пользу вашу. Вот видите, как легко человеку, у которого есть какая-нибудь власть, располагать участью людей на добро и зло. Не перечтешь несчастий от сущей безделицы, от того, что иной с высоты своей поленился выслушать внимательно просителя, другой пугнул его в пароксизме воеводского нетерпения. А самоуправство, апатия, продажность… – вот что губит нас.
– Кажется, благодаря духу времени, взяточничество выводится. Поговаривают, что составляются проекты новых судов с гласностью в помощь им. Надо надеяться, что молодые поколения не ударят лицом в грязь.
– Вот это дело другое. Гласность, гласность! великое слово, если оно вместе с тем и дело. Пусть явится во всеоружии истины, хотя бы с грозой, но только не театральной, не с фальшфейером. Не ласкать зло надо, а сокрушать его.
В голосе Ранеева слышалось какое-то ожесточение; забывшись, он говорил громко и потрясал рукой, так что прохожие смотрели на него как на чудака.
– Дай Бог, чтобы скорее состоялись эти суды. Авось либо свежие струи с новыми, честными силами втекут на них, – продолжал он. – Допусти и меня, Боже, дождаться хоть зари этого дня. О тогда, если не задушат этой гласности в ее зародыше те, кому она по грехам их не понравится, я опишу историю одного события в моей жизни на поучение следователям и судьям. Да, друг мой, есть в ней чудеса, которые и не снились нашим мудрецам-обличителям. Сильно боролся я с людской злобой и коварством (только глупая овца лижет руку, которая ведет ее на заклание) и все-таки изнемог в борьбе. Но я, думаю, наскучил вам своими стариковскими иеремиадами. Что ж делать, это мой конек, с которого сойду только на пороге гроба. К тому ж я с первого раза полюбил вас, и потому так с вами откровенен. Кстати, вот и магазин Швабе.
Вошли в магазин. Старика, видно, знали там хорошо. Он протянул хозяину руку, хозяин радостно пожал ее и, приветствуя его с добрым утром, называл превосходительством. Ранеев отозвал его в сторону и стал переговаривать с ним вполголоса. Он не стыдился своей бедности, но и не любил пародировать ей, а предмет его разговора с оптиком казался ему щекотливым при постороннем свидетеле. Дело в том, что он принес в узле спорки богатого шитья с мундира, в котором не имел более надобности, темляки, шарф, и просил тотчас сжечь их, свесить выжигу и променять на очки. Между тем Сурмин старался не слыхать их переговоров и занялся с приказчиком осмотром барометров. Порядочный ком выжиги был скоро принесен и свешен. Хозяин магазина предложил старику выбрать себе очки по глазам. Ранеев сказал номер, который он обыкновенно употреблял, золотые очки были выбраны, испробованы на разных предметах и пришлись совершенно по глазам.
– Как же расчет? – спросил он.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67