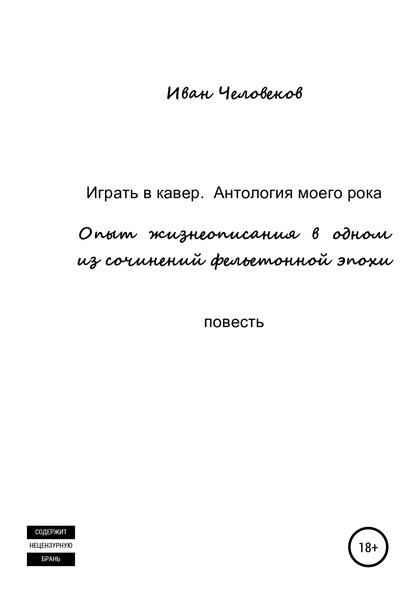По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Играть в кавер. Антология моего рока
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Город живет счастьем своих людей,
Старый отель, двери свои открой,
Старый отель, в полночь меня укрой. [10]
***
Из-за длительных осенних осадков, стены невысоких жилых строений, асфальтное покрытие узких дорог и тротуаров, опустевшего, после летного сезона, провинциального курортного города, контрастно темнели, впитывая пятна дождя. Стекающие потоки воды, зеркально отражали блеск уличного освещения, рефлексируя редкому свету ночных окон.
По пустой феодосийской дороге, расплющивая небольшие лужи, медленно ехал легковой автомобиль. На заднем сидении, не отрывая взгляда от стекающих по боковому стеклу капель дождя, неподвижно сжался, промокший тринадцатилетний мальчишка – блудный племянник Слуги, регулярно убегающий из дома.
– Малыш, на днях к нам приезжает родственник. Умный человек, мастер своего дела… Эти уходы из дома должны закончиться. – Будущий радушный хозяин, тот самый обидчик Слуги, устало управлял транспортным средством, и уже не ругал сына.
Как славно мог бы, этот ночной дуэт, тихо затянуть хорошую песню.
Но теплый дождь не бьет в стекло
Мокрых карет,
И электронные табло
Смотрят мне вслед,
Домов кварталы спят давно,
Видят сны,
И смотрит вновь в мое окно
Тень слепой луны. [10]
***
Сидя куняя, за боковым местом, полупустого плацкарта, Слуга также поглядывал на стекающие, по грязному стеклу окна, капли дождя.
Не люблю темные стекла,
Сквозь них темное небо.
Дайте мне войти, откройте двери.
Мне снится Черное море,
Теплое Черное море,
За окнами дождь, но я в него не верю. [11]
Порывшись в сумке, он случайно нашел незаметную поклажу Нади – маленькую вязаную шапочку. Вспомнил, как девушка, стремясь быть не увиденной, что-то прятала дома в его дорожную сумку.
И я попал в сеть,
И мне из нее не уйти,
Твой взгляд бьет меня, словно ток.
Звезды, упав, все останутся здесь,
Навсегда останутся здесь. [11]
Он любовался, мысленно подкрашенными, проклятой акварелью, а может быть, уже другими красками, ретушью, пробегающими в окне пейзажами. Рассматривал соседей пассажиров. Что-то рисовал, записывал в блокнот… Наверное стихи.
Кто-то, в душной и унылой пустоте, подозрительно поглядывая исподлобья, поглощал, не вынимая из потертого пакета, пищу.
В каждом из нас спит волк,
В каждом из нас спит зверь,
Я слышу его рычание, когда танцую.
В каждом из нас что-то есть,
Но я не могу взять в толк,
Почему мы стоим,
А места вокруг нас пустуют. [11]
Другой толстокожий ханжа, из соседнего купе, многозначительно напыжившись, демонстрировал свою нелепую самодостаточность. Подвыпившая третья компания, громко вела дискусии с брызгами слюны изо рта, напоминая о небезызвестных, вагонных спорах, воспетых одним из магистров музыки.
Плацкарт не отапливался, и поэтому народ начинал укрываться и укутываться, заворачиваться в сырые слежавшиеся вагонные одеяла. Некоторые места, холмиком таких накрытых покрывал, начинали напоминать про скукожившихся под ними дремлющих и спящих "мерзлячков".
За окном взошла полная луна.
В полутемном вагоне, сонная публика, напоминала завязших захмелевших пчел. Лишь только ненасытная молодая третья компания, за недоеденным столом, негромко беззаботно пела песни, но уже не так громко.
Толстокожий ханжа, то ли из-за своей напыщенности, то ли по какой-то другой причине, тоже не может заснуть. Думает о чем то.
Я сам себе и небо и луна,
Голая, довольная луна,
Долгая дорога, да и то не моя.
За мною зажигали города,
Глупые чужие города,
Там меня любили, только это не я.