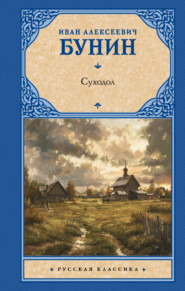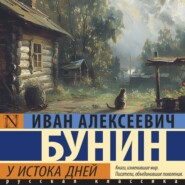По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У истока дней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.
На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.
– Ай, сударушка, рассохи-то пропил? – пошутил дед.
– Пропил, – с бледной улыбкой ответил Глебочка.
– А мои скоро?
– Должно, едут.
– Где ж девки-то твои?
– Девти идут, – ответил Глебочка картаво.
На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел вдаль, по дороге.
Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек… Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника… Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.
«Эх, кабы теперь дождичка, – думал он, – то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!»
Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облаченную в длинную стариковскую рубаху… и наконец пришел к счастливой мысли.
– Ну, прикончил? – говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.
– Кончить-то, кончил, – отвечал Андрей.
Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы. В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.
Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде… Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.
Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежеющий вечерний воздух.
«Не забыть бы подкову оторвать», – думал он.
В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.
– Будя, ребята, спорить-то, – сказал дед. – Карауль пока ты, Васька, – ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри не ложись головой на межу – домовой отдавит!
А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь – святую дорогу ко граду Иерусалиму.
Наконец и он лег.
Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы…
На хуторе
Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне, – одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли… Не играли песен, не кричали ребятишки…
Все задумалось вечерней думой, – задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.
Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к лощине. Из окна, через кусты, было далеко видно.
Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пать-пальвать» перепел.
Капитон Иваныч был один – как всегда.
Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл ее в своих стансах Валентиной – на деле ее звали Анютой и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате, – но взаимности не имел.
Имя у него было «как у дворецкого», наружность не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий, он похож был, по отзывам приятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекции князя (недаром говорили, что князь – отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именьице от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде – «а-ля полька»… Но ничего не вышло из этого. «Валентина» поехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.
Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Иваныч «добряк, но фантазер… старый фантазер… отживающий свое время тип…». Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы… Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротою…
Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:
– А помните, сударь, Анну Григорьевну?
– Помню, – сказал Капитон Иваныч.
– Умерла-с. Великим постом схоронили.
Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером… Вечер настал такой тихий и грустный!
Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.
Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить?
Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном… Да и что перепела!
Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.
Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов – хорошо, что теперь их нет более! – холод, голод, поездки к тетке… Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами, – говорили, от несчастной любви сошла с ума, – помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блаженную, важную физиономию; помнил и «Полонез Огинского»… Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева… Ах, этот полонез! И она играла его…
Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шепот-треск… В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна… Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада…
Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.
– Расфан-та-зировался… – протянул он вслух.
Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал – вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.
Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне… И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли – таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях… А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза – сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды…
Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.
«Восемьдесят лет домику! – думал Капитон Иваныч. – Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»
Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль… Он взял картуз и вышел из дому.
На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.
– Ай, сударушка, рассохи-то пропил? – пошутил дед.
– Пропил, – с бледной улыбкой ответил Глебочка.
– А мои скоро?
– Должно, едут.
– Где ж девки-то твои?
– Девти идут, – ответил Глебочка картаво.
На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел вдаль, по дороге.
Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек… Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника… Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.
«Эх, кабы теперь дождичка, – думал он, – то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!»
Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облаченную в длинную стариковскую рубаху… и наконец пришел к счастливой мысли.
– Ну, прикончил? – говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.
– Кончить-то, кончил, – отвечал Андрей.
Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы. В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.
Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде… Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.
Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежеющий вечерний воздух.
«Не забыть бы подкову оторвать», – думал он.
В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.
– Будя, ребята, спорить-то, – сказал дед. – Карауль пока ты, Васька, – ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри не ложись головой на межу – домовой отдавит!
А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь – святую дорогу ко граду Иерусалиму.
Наконец и он лег.
Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы…
На хуторе
Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне, – одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли… Не играли песен, не кричали ребятишки…
Все задумалось вечерней думой, – задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.
Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к лощине. Из окна, через кусты, было далеко видно.
Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пать-пальвать» перепел.
Капитон Иваныч был один – как всегда.
Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл ее в своих стансах Валентиной – на деле ее звали Анютой и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате, – но взаимности не имел.
Имя у него было «как у дворецкого», наружность не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий, он похож был, по отзывам приятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекции князя (недаром говорили, что князь – отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именьице от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде – «а-ля полька»… Но ничего не вышло из этого. «Валентина» поехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.
Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Иваныч «добряк, но фантазер… старый фантазер… отживающий свое время тип…». Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы… Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротою…
Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:
– А помните, сударь, Анну Григорьевну?
– Помню, – сказал Капитон Иваныч.
– Умерла-с. Великим постом схоронили.
Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером… Вечер настал такой тихий и грустный!
Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.
Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить?
Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном… Да и что перепела!
Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.
Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов – хорошо, что теперь их нет более! – холод, голод, поездки к тетке… Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами, – говорили, от несчастной любви сошла с ума, – помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блаженную, важную физиономию; помнил и «Полонез Огинского»… Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева… Ах, этот полонез! И она играла его…
Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шепот-треск… В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна… Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада…
Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.
– Расфан-та-зировался… – протянул он вслух.
Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал – вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.
Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне… И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли – таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях… А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза – сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды…
Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.
«Восемьдесят лет домику! – думал Капитон Иваныч. – Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»
Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль… Он взял картуз и вышел из дому.