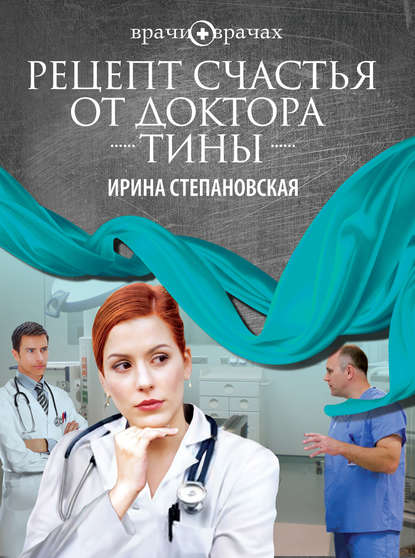По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рецепт счастья от доктора Тины
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да продолжай уж, да и заканчивай наконец, – хмуро буркнул в сторону трибуны главный врач. А сам подумал: «Если вон у нашей звезды отечественной патанатомии не будет к тебе никаких вопросов, то я-то уж тем более вылезать не стану… – Главный врач недолюбливал Михаила Борисовича. – Устраивает вечно на конференциях свои заумные шоу. Нет чтобы у меня спросить, а не повредит ли его наука больничному отчету? Легко быть всегда самым умным, а ты вот попробуй, повертись, чтобы и науку соблюсти, и смертность чтобы была, не дай бог, не выше, чем по городу. Я, может быть, тоже рад бы наукой заниматься, да высокая смертность это тебе и лишение бюджетных денег, и премий, и пальцем на тебя показывают на всех совещаниях…»
– Так кто же у вас в «Анелии» был половинкой? – Ризкин наклонился к самому плечу Аркадия Петровича и снизу вверх заглянул ему в лицо. Барашков повернулся к нему и мысленно отшатнулся: бесовский огонь так и искрил, так и перескакивал с одной серо-коричневой крапинки на другую в насмешливых, умных глазах Михаила Борисовича.
Главный врач не выдержал, авторучкой постучал по столу:
– Я попрошу уважения к коллегам! Сохраняйте тишину в задних рядах!
– Молчим, молчим! – Михаил Борисович приподнялся и картинно прижал указательный палец к губам, чтобы продемонстрировать лояльность к президиуму. Главный врач мрачно посмотрел на него и на Барашкова с высоты кафедры. «Наверное, и этого рыжего попрыгунчика я снова взял на работу напрасно. Никогда у него не было никакого уважения к начальству, – главный врач вздохнул. – Не взял бы, да деваться было некуда. Хорошего реаниматолога трудно найти. А оба заведующих – и первой, и второй хирургией все уши прожужжали, что для послеоперационных больных необходимо организовать реанимационную палату. Вроде наши больничные анестезиологи слишком молоды и неопытны – не справляются с тяжелыми больными…»
– Так вы не ответили насчет половинки, – дотронулся до локтя Барашкова Михаил Борисович.
Аркадий выставил вперед нижнюю губу, почесал затылок.
– Работал у нас один специалист. Владик Дорн. И я думаю, что он все-таки неполноценный человек. И уж тем более неполноценный врач. А только какая-то четвертушка от врача и половина от человека. Хотя на аппаратуре он работал хорошо. Да вы, наверное, не были с ним знакомы.
– Почему же не знаком? – Михаил Борисович глумливо ухмыльнулся. – Я Дорна знаю. Я его на работу к себе взял, когда ваша «Анелия» накрылась. Вот уже два дня к нему присматриваюсь. По-моему, неглупый парень. Больных, конечно, не любит, но патанатомией вдруг заинтересовался.
Барашков почувствовал, что Мишка-черт специально его на разговор о половинках вызвал, хотел узнать его мнение о Дорне. Неприятно, хотя сказал он о Владике правду. То, что на самом деле думал. Но все равно нехорошо получилось.
– В вашей профессии больных любить, по-моему, и не обязательно, – пробормотал он.
– Ошибаетесь, коллега. Мы ведь истину ищем не ради мертвых, ради живых. Которых, собственно, и любим согласно общим принципам гуманности и человеколюбия, – Михаил Борисович Барашкову крапчатым глазом подмигнул и, воспользовавшись паузой в окончании доклада, встал. – Пойду потихоньку. Не могу больше выносить эту еженедельную говорильню. После наших конференций я себя в своем кабинете чувствую, как в отделении для новорожденных – под колпаком – тихо, спокойно и никто над ухом не жужжит. – Он издалека сделал извинительный поклон главному врачу и тихонько проскользнул вон из конференц-зала. Главный врач в его сторону укоризненно покачал головой, а Барашков посмотрел на затворившуюся за Ризкиным дверь с завистью.
3
На Валентину Николаевну в это утро в квартире обрушился целый шквал звонков – ровно два. Что ж, для нее теперь и это было много. Были недели – вообще ни одного. Полное одиночество, не считая зверей – сенбернара да мышонка. Сегодня вдруг спозаранку позвонил отец: не надо ли чего?
– Спасибо, папа, не надо. У меня все есть. Я ведь работаю.
– Опять газеты продаешь, Валечка?
Она вздохнула в ответ:
– Что же делать, раз на большее не способна.
– Не дури, дочка! – Голос у отца стал сердитым. – Ну, болела, ну, операция – все понятно. Но сколько можно дурака валять? Устраивайся на нормальную работу, ты же врач.
Она помолчала в трубку. Потом выдохнула: «Извини, папа, что-то с утра голова сильно болит» – и отключилась. Походила по комнате, повздыхала. Родителей можно понять, они правы. И пожилые они уже, их жалко. Конечно, они беспокоятся. Последние полгода особенно. Все теперь кивают на сестру Ленку. Какая молодец! Пятнадцать лет уже в инвалидном кресле, а не сдалась, не разнюнилась. Хотя поначалу ой как несладко ей пришлось – из молодой девчонки разом превратиться в неходячего инвалида. А выдержала, нашла себя. Фантастическо-детективные романы теперь пишет. Четвертый томик уж вышел. Тина взяла со стола небольшую книжку. «Тайна марсианского дома». Откинула от себя. Интересно написано. Только дочитать до конца так и не смогла. Что это говорит в ней? Зависть? Нет. Она Ленку очень любит. Когда с сестрой это случилось, она ведь даже пошла в медицинский – чтобы знать, как сестре помочь и родителям. И помогала, было время. Теперь у Ленки все хорошо, насколько может быть хорошо в ее положении. Дай бог ей побольше денег, успеха и славы. И родителям она, Тина, благодарна. Но вот теперь получилось так, что из благополучной девочки с музыкальными способностями, хорошего врача, матери и жены, опоры семьи превратилась Тина черт знает в кого. В неустроенную разведенку, продавщицу газет в розницу, в переходе метро, с рук. Так получилось. У каждого своя жизнь. И если более или менее известно, как она начинается, то никогда невозможно заранее знать, чем закончится.
Тина поставила перед сенбернаром миску с едой: «Ешь, Сеня». Накрошила кусочки сыра мышонку: «Кушай, Ризкин». Назвала это имя и вдруг вспомнила Михаила Борисовича, его зеленоватые глаза, волосы ежиком – соль и перец. Почесала мышонку лобик. В который раз умилилась: точь в точь молодой Михаил Борисович. Галстука-бабочки только не хватает. Она задумалась: интересно, как он там поживает, ее старый знакомый? Она ведь его не видела со времени своей операции. И Аркадий теперь снова в больнице работает. Неделю назад звонил – сказал, все-таки приезжает Ашот из Америки. Какого числа? Тина мысленно подсчитала. Батюшки, да это ведь сегодня! Она подошла к окну, взглянула на небо. Обычный серый московский цвет. Наверное, там, в высоте, небо сказочно голубое, такое, каким снилось ей в ее болезненных снах: она в самолете с кучей больных – не знает, что с ними делать. Тина с силой задернула штору. Она и сейчас не знает, что делать. Не во сне, наяву. Но не с больными, с собой. И такая тоска, такая боль пронзила грудь, что повеситься и то было бы легче, чем ее терпеть.
Почему предательство страшнее всего? Она вспомнила Иуду. Чем он хуже, чем обычный наемник, стреляющий из-за угла? Или стражник, колющий копьем? В чем, собственно, разница? И тот разит насмерть, и этот. Она подумала: разве дело в смерти? Нет, дело в разочаровании, в обманутых надеждах. Скажи больному, что он обречен – он завершит все свои жизненные дела и будет готовиться к уходу. Но если ты скажешь его родственникам, что больной должен, по идее, умереть, но есть надежда, что он поправится, выздоровеет и все будет хорошо, а больной все-таки умрет, несмотря на все надежды, – выходит, ты убьешь его дважды. Считается, в надежде – жизнь, «пока живу – надеюсь», но вместе с тем пессимисты правы – никогда нельзя надеяться на лучшее. Если оно не наступит, разочарование будет еще горче.
Сенбернар Сеня поел и лег у двери. Тина посмотрела на него и стала одеваться. «Сейчас пойдем…» Сеня поднял голову, снял поводок со специального крючка и положил его рядом с собой на пол. Тина посмотрела на крючок. Его вбил Азарцев. Когда? Всего два месяца назад, после Нового года. Тогда Азарцев ее еще любил. ЛЮБИЛ? Да полно. Она просто надеялась на это. Бернард Шоу утверждал, что каждый настоящий врач должен уметь лгать. Причем не просто лгать, а лгать с чувством оптимизма. Оптимистическая ложь. Зачем она нужна, особенно себе, если в прозрении кроется величайшее несчастье?
Тина, уже одетая, прошла в кухню, взяла молоток, вернулась назад в коридор, подвинула Сеню и с размаху ударила по крюку. Он погнулся, но не отлетел. «Аккуратно вбил, – подумала про Азарцева. – Он все делал аккуратно. Только неаккуратно спал здесь, на полу, с этой красавицей прямо на ее шикарном пальто. Дверь позабыл закрыть на внутренний замок». Она сглотнула и подавилась слюной, закашлялась, захлебнулась. Побежала в ванную, там ее вырвало. Сеня мордой приотворил дверь, сидел, внимательно смотрел на нее. Сбоку рта у него повисла вязкая капля слюны. «Мне тоже надо ходить с открытым ртом, чтобы не захлебнуться». Она отдышалась, умылась. «Сейчас, Сеня». По дороге к двери снова взяла молоток. Грохнула так, что вместе с крючком отлетел еще и кусок штукатурки. Мышонок Ризкин пискнул и спрятался в клетку. Тина бросила молоток, открыла дверь и пропустила Сеню вперед: «Пойдем», и, заметив валяющийся на пороге сплющенный, измятый крючок, пинком выкинула его из квартиры на лестничную площадку со странным удовлетворением. На грохот открылась дверь в квартире напротив и тут же закрылась. Сеня стал спускаться вниз, она пошла за ним. Ей было так же плохо, и эпизод с крючком ничего не изменил. Она молчала, но если бы в это время кто-нибудь сказал ей что-нибудь обидное, она могла бы убить его, покалечить, потом убить себя, разрушить весь дом, взорвать целый мир. Но, к счастью, ей никто не встретился. Она вышла на улицу. Во влажное, еще снежное, хлюпающее под ногами вязкое мартовское московское утро. И в это самое время второй раз за день у нее зазвонил телефон – на этот раз в кармане.
4
Ашот в самолете спал. И снился ему не теплый Восток с его вечными традициями гостеприимства – с накрытыми во дворах столами, – не шашлыки и фрукты, не сладкое вино и не вражда и война, которые случились там, в городе его детства, уже после того, как он из него уехал. Не снился ему и наш слякотный Север с плохой погодой семь месяцев в году, от которой столичные жители прячутся в золоченом и людном метро. Тот самый наш Север, с которым Ашот уже давно сроднился: с его суматохой и склочностью, красавицами девчонками, усталыми женщинами средних лет, подвыпившими мужиками, грязными автомобилями на переполненных улицах, с толстяками-гаишниками в лимонных жилетах, роскошными ныне банками и преисполненными достоинства депутатами.
А приснился Ашоту пахнущий воздушной кукурузой, жареными сосисками и кофе Запад – небольшой американский городишко с довольно зачуханными улицами в центре, но с аккуратными частными домиками на окраине. С бензоколонками, кегельбаном, магазинчиками на каждом углу и голубыми бассейнами в каждом приличном дворе с непременным газоном. Тот самый городок, где ныне жила его семья – оба брата с женами и детьми, говорящими по-английски – ведь они родились уже тут, на этом жарком Западе. И здесь же, будто нарочно сменяя поколения, один за другим, нежданно-негаданно, без всяких видимых, казалось, на то причин, умерли один за другим его родители – сначала отец, а через несколько месяцев – мать. Он сам приехал сюда последним из семьи. И прожил здесь эти нескончаемые два года. И даже работал – получил лицензию на то, чтобы делать педикюр американским пенсионерам. Пытался говорить с ними по-английски – так, как учили в школе и на курсах, и убедился, что его никто не понимает. Выучил тот сленг, на котором разговаривали они. Иногда отвечал на вопросы этих старых американцев – о перестройке и все еще о Горбачеве. В ответ выслушивал нескончаемые рассказы о величии Америки и силе ее народа. Сдавал он и экзамены – сначала, чтобы взяли на работу кем-то вроде уборщика в больнице, потом социально дорос до санитара. Он стал известен соседям по улице словно Фигаро, который знает, как полечить больной зуб, что дать от прыщей, чем помазать ранку ребенку. Жаль ему было только, что никто из соседей, кроме полячки Ванды, приехавшей в Америку лет на десять раньше него, не знал, кто такой Фигаро и чем он знаменит.
Он уже собирался в самом скором времени получить диплом специалиста по прокалыванию ушей, и брат с сестрой советовали ему уйти из больницы и открыть свое дело, что-то вроде крохотного педикюрного кабинета, как вдруг Ашот объявил, что должен съездить в Москву.
– Что ты там забыл? – не понимали его родственники, а он не мог им объяснить, зачем ему надо обязательно ехать. Но что-то неуловимое произошло в нем самом, от чего его стало тошнить и от маленького городка, который, объективно говоря, несмотря на всю его тошнотворность, по своему жизненному устройству все равно мог дать сто очков вперед какому-нибудь нашему районному центру, и от старых американцев в клетчатых рубашках, и от аккуратных газонов, и, самое главное, от работы санитара, педикюрщика и прокалывателя ушей.
– Что ты врешь, что ты ерунду мелешь! – восклицала и удивлялась «старшая женщина» их теперешней семьи, жена его старшего брата Сусанна. Она была прекрасной полной армянкой в самом соку, с луноликим лицом, с полукружиями ровных бровей, но в то же время было уже в ней и много американского – любовь к хлопчатобумажным брюкам вместо черных широких юбок, к кока-коле, к барбекю на лужайке, где вместо сочного барашка жарились толстые, глупые сосиски.
– Не слушайте его, он говорит вам неправду! – возмущалась она и негодующе взмахивала полными загорелыми руками. – Америка, видишь ли, ему не нравится. Да Америка, если хочешь знать, – это сталинизм с человеческим лицом! Какой везде порядок! Нам и не снилось. Пиво на улицах пить нельзя. Окурки кидать нельзя. Подросткам без паспорта и без сопровождения взрослых спиртное не продают. Детям курить не разрешают. Если кто кошку на улицу выкинул – штрафуют. Ты в машине остановился на улице – полицейский подъедет, спросит, что у тебя случилось. Проводит туда, куда надо, одолжит свой насос или что-то еще, вызовет эвакуатор, даст таблетку от сердца. Нет, мне в Америке очень нравится! Разве твой брат, мой муж, армянин, у нас в Баку, где мы прожили всю жизнь и откуда нас выгнали в двадцать четыре часа, мог бы иметь свою фирму и такой дом, как у нас здесь, в Америке? И, кстати, этот дом может быть и твоим домом, Ашотик, стоит тебе только захотеть жить с нами одной семьей.
– У тебя прекрасный дом, Сусочка, – отвечал Ашот, а все вокруг него молчали, не зная, как участвовать в этом споре. – Но мне в нем нечего делать. Ты живешь только этим домом, детьми, своим мужем. Ты здесь не работаешь, не ходишь в театр, не слушаешь оперу, а в Баку, между прочим, частенько ходила… Тебе даже на твоей просторной кухне здесь не о чем разговаривать с соседками. Политические новости здесь никто не обсуждает, в кино ходят только подростки, а местные сплетни тебе неизвестны, потому что с тобой здесь ими никто не делится.
– А спроси, спроси ты своего второго брата, – не унималась Сусанна, – что ему больше нравится? Преподавать философию в институте рыбного хозяйства, чем он занимался после окончания университета, или разъезжать по огромной стране в комфортабельном грузовике нашей фирмы, совладельцем которой он тоже является? И ты бы мог так же работать, если б захотел, если бы понял, что то, отчего ты ушел, все эти посиделки на кухнях, осталось там, на далеком Севере, а здесь к тебе грядет новая жизнь… – И Сусанна вскакивала, встряхивала браслетами и перемещалась туда, где ждал ее небольшой дворик, с аккуратным, подстриженным газоном, навстречу возвращавшимся из школы детям. (Учительница говорила, что они подают большие надежды. Они даже смогут получать стипендию в колледже!)
– Жаль, что ты не помнишь, Сусанночка, – кричал ей вслед в своем сне Ашот, – как наша мама говорила, что все отдаст, чтобы ее дети получили хорошее образование: старший стал бы инженером, средний – гуманитарием, а уж младший – врачом. И что она просто умерла бы со стыда, если бы узнала, что ее дети стали торговать на рынке луком или виноградом или даже водить грузовики с помидорами и зеленью. А колледж этот местный, – Ашот во сне даже пинал ногами воздух от возбуждения, что проявлялось наяву тем, что он сотрясал спинку сиденья впереди сидящего пассажира, – на самом деле прибежище для дебилов. Нечто среднее между ПТУ и педагогическим техникумом, где историю искусств учат вперемежку с кулинарией и слесарным делом. Правда, изучают и то и другое на компьютерах! О, какие замечательные компьютеры стоят в этих прекрасных свободных классах! Но чтобы твоим детям, Сусочка, выучиться всерьез – на дипломата, летчика или врача, им придется пройти здесь через весь этот ад местных колледжей с потерей нескольких лет, пока они доберутся до возможности поучиться где-нибудь повыше и подороже. А твой муж, мой брат, при всем желании не сможет обеспечить им легкое получение образования всей своей клубникой, собранной в Южной Америке. Так что ты, Сусанночка, может быть, вспомнишь еще те времена, когда ты сама, прямо из-за школьной парты, из школьной коричневой формы с фартуком и большим белым бантом в волосах выпрыгнула сразу в прекрасный Институт народного хозяйства. И получила там специальность не какого-то там недоучки повара-искусствоведа, кем будет через два с половиной года твоя дочь, а инженера-технолога, специалиста по изготовлению и хранению колбас и мясных деликатесов. И в том, Сусанночка, что по праздникам мы всей семьей ели вкуснющую копченую колбасу, сделанную под твоим руководством, тоже была своя прелесть! Забыла?
– Я помню, – сказала Сусанна. – Я все помню, вкусная была колбаса. Но только в Москве сейчас без денег тоже не пробьешься в прекрасный Институт народного хозяйства. А я, в принципе, если захочу, могу и здесь открыть небольшой цех по изготовлению домашних колбас. И это будет стоить, кстати, гораздо меньших хлопот, чем в Москве…
– Здесь тебе не дадут это сделать, потому что ты тогда составишь конкуренцию местному производителю, который гонит дешевые сардельки из куриной кожи и бумаги.
– Да ну тебя, Ашот, – махала на него Сусанна. – Все ты критикуешь, все тебе здесь не нравится!
И этот разговор с Сусанной в Ашотовом сне был таким реальным, таким наболевшим, что он, как это часто бывает с людьми, сознающими, что они на самом деле спят и видят сны, не хотел просыпаться, не досмотрев его и не доведя до конца свой спор.
А это нужно было сделать – закончить, подвести итоги, оправдаться, в конце концов, почему он сейчас не трудится в поте лица в этом маленьком городишке на Западе, а летит в самолете на слякотный Север. «По делам», – как объяснил он по телефону Барашкову, а на самом деле просто так, побродить, погулять, повидать знакомых, убедиться, где же все-таки лучше – там или здесь, даже потратив на эту прихоть все заработанные за два года деньги. И съездить в Петербург, чтобы повидать все те места, которые так любила Надя. И этим как бы снова встретиться с ней.
– Между прочим, и мама, – говорил во сне Сусанне Ашот, – хоть и с удовольствием грелась на солнышке на террасе твоего американского дома, а вздыхала о прошлом, о своей небогатой молодости. И мне всегда было ясно, что не заменит ей этот аккуратный газон прежнего садика с помидорными грядками и старым шлангом, змеей тянущимся от кухонного окошка под наши абрикосовые деревья.
– На, успокойся, поешь! – протягивала ему на пластмассовом подносе гамбургер добрая Сусанна. На разрезанной пополам булочке лежали бледные листья салата, малиновые кружочки салями, колесики перца и тепличный помидор из тех, что партиями возил на продажу брат. Рядом стояла бутылочка кока-колы.
– Я не голодный, – отвечал Ашот. – Был бы голоден, все бы съел. Не сердись, дорогая, но аппетита у меня тут нет. И, если говорить честно, эта салями – не колбаса!
– Ой, скажешь! – хмыкала Сусанна.
– А московские булочные, Сусанночка! – не унимался Ашот. – Из чего, интересно, делают здесь эти булочки, дорогая? Они не имеют ни вкуса, ни запаха.
– Из самой лучшей в мире аргентинской пшеницы, – ворчала Сусанна.
– Я хочу в Москву, Суса! Я скучаю по московской слякоти, кто бы мог подумать?
– Так зачем ты тогда ехал сюда? – Сусанна смотрела на него своими добрыми армянскими глазами, она не умела злиться всерьез.
– А там я скучал по всем вам! А теперь хочу назад, в тот холод и сырость. Я скучаю по своей больнице…
– Ужасной больнице, судя по твоим рассказам!
– Возможно, – легко отвечал Ашот. – Но я по ней скучаю. Скучаю по своему отделению. И, черт возьми, я – культурный человек и хочу сходить в театр и посмотреть какую-нибудь пьесу на понятном мне языке. Ну, почему вы не хотите вернуться назад в Москву? Детям там было бы лучше!
– Так кто же у вас в «Анелии» был половинкой? – Ризкин наклонился к самому плечу Аркадия Петровича и снизу вверх заглянул ему в лицо. Барашков повернулся к нему и мысленно отшатнулся: бесовский огонь так и искрил, так и перескакивал с одной серо-коричневой крапинки на другую в насмешливых, умных глазах Михаила Борисовича.
Главный врач не выдержал, авторучкой постучал по столу:
– Я попрошу уважения к коллегам! Сохраняйте тишину в задних рядах!
– Молчим, молчим! – Михаил Борисович приподнялся и картинно прижал указательный палец к губам, чтобы продемонстрировать лояльность к президиуму. Главный врач мрачно посмотрел на него и на Барашкова с высоты кафедры. «Наверное, и этого рыжего попрыгунчика я снова взял на работу напрасно. Никогда у него не было никакого уважения к начальству, – главный врач вздохнул. – Не взял бы, да деваться было некуда. Хорошего реаниматолога трудно найти. А оба заведующих – и первой, и второй хирургией все уши прожужжали, что для послеоперационных больных необходимо организовать реанимационную палату. Вроде наши больничные анестезиологи слишком молоды и неопытны – не справляются с тяжелыми больными…»
– Так вы не ответили насчет половинки, – дотронулся до локтя Барашкова Михаил Борисович.
Аркадий выставил вперед нижнюю губу, почесал затылок.
– Работал у нас один специалист. Владик Дорн. И я думаю, что он все-таки неполноценный человек. И уж тем более неполноценный врач. А только какая-то четвертушка от врача и половина от человека. Хотя на аппаратуре он работал хорошо. Да вы, наверное, не были с ним знакомы.
– Почему же не знаком? – Михаил Борисович глумливо ухмыльнулся. – Я Дорна знаю. Я его на работу к себе взял, когда ваша «Анелия» накрылась. Вот уже два дня к нему присматриваюсь. По-моему, неглупый парень. Больных, конечно, не любит, но патанатомией вдруг заинтересовался.
Барашков почувствовал, что Мишка-черт специально его на разговор о половинках вызвал, хотел узнать его мнение о Дорне. Неприятно, хотя сказал он о Владике правду. То, что на самом деле думал. Но все равно нехорошо получилось.
– В вашей профессии больных любить, по-моему, и не обязательно, – пробормотал он.
– Ошибаетесь, коллега. Мы ведь истину ищем не ради мертвых, ради живых. Которых, собственно, и любим согласно общим принципам гуманности и человеколюбия, – Михаил Борисович Барашкову крапчатым глазом подмигнул и, воспользовавшись паузой в окончании доклада, встал. – Пойду потихоньку. Не могу больше выносить эту еженедельную говорильню. После наших конференций я себя в своем кабинете чувствую, как в отделении для новорожденных – под колпаком – тихо, спокойно и никто над ухом не жужжит. – Он издалека сделал извинительный поклон главному врачу и тихонько проскользнул вон из конференц-зала. Главный врач в его сторону укоризненно покачал головой, а Барашков посмотрел на затворившуюся за Ризкиным дверь с завистью.
3
На Валентину Николаевну в это утро в квартире обрушился целый шквал звонков – ровно два. Что ж, для нее теперь и это было много. Были недели – вообще ни одного. Полное одиночество, не считая зверей – сенбернара да мышонка. Сегодня вдруг спозаранку позвонил отец: не надо ли чего?
– Спасибо, папа, не надо. У меня все есть. Я ведь работаю.
– Опять газеты продаешь, Валечка?
Она вздохнула в ответ:
– Что же делать, раз на большее не способна.
– Не дури, дочка! – Голос у отца стал сердитым. – Ну, болела, ну, операция – все понятно. Но сколько можно дурака валять? Устраивайся на нормальную работу, ты же врач.
Она помолчала в трубку. Потом выдохнула: «Извини, папа, что-то с утра голова сильно болит» – и отключилась. Походила по комнате, повздыхала. Родителей можно понять, они правы. И пожилые они уже, их жалко. Конечно, они беспокоятся. Последние полгода особенно. Все теперь кивают на сестру Ленку. Какая молодец! Пятнадцать лет уже в инвалидном кресле, а не сдалась, не разнюнилась. Хотя поначалу ой как несладко ей пришлось – из молодой девчонки разом превратиться в неходячего инвалида. А выдержала, нашла себя. Фантастическо-детективные романы теперь пишет. Четвертый томик уж вышел. Тина взяла со стола небольшую книжку. «Тайна марсианского дома». Откинула от себя. Интересно написано. Только дочитать до конца так и не смогла. Что это говорит в ней? Зависть? Нет. Она Ленку очень любит. Когда с сестрой это случилось, она ведь даже пошла в медицинский – чтобы знать, как сестре помочь и родителям. И помогала, было время. Теперь у Ленки все хорошо, насколько может быть хорошо в ее положении. Дай бог ей побольше денег, успеха и славы. И родителям она, Тина, благодарна. Но вот теперь получилось так, что из благополучной девочки с музыкальными способностями, хорошего врача, матери и жены, опоры семьи превратилась Тина черт знает в кого. В неустроенную разведенку, продавщицу газет в розницу, в переходе метро, с рук. Так получилось. У каждого своя жизнь. И если более или менее известно, как она начинается, то никогда невозможно заранее знать, чем закончится.
Тина поставила перед сенбернаром миску с едой: «Ешь, Сеня». Накрошила кусочки сыра мышонку: «Кушай, Ризкин». Назвала это имя и вдруг вспомнила Михаила Борисовича, его зеленоватые глаза, волосы ежиком – соль и перец. Почесала мышонку лобик. В который раз умилилась: точь в точь молодой Михаил Борисович. Галстука-бабочки только не хватает. Она задумалась: интересно, как он там поживает, ее старый знакомый? Она ведь его не видела со времени своей операции. И Аркадий теперь снова в больнице работает. Неделю назад звонил – сказал, все-таки приезжает Ашот из Америки. Какого числа? Тина мысленно подсчитала. Батюшки, да это ведь сегодня! Она подошла к окну, взглянула на небо. Обычный серый московский цвет. Наверное, там, в высоте, небо сказочно голубое, такое, каким снилось ей в ее болезненных снах: она в самолете с кучей больных – не знает, что с ними делать. Тина с силой задернула штору. Она и сейчас не знает, что делать. Не во сне, наяву. Но не с больными, с собой. И такая тоска, такая боль пронзила грудь, что повеситься и то было бы легче, чем ее терпеть.
Почему предательство страшнее всего? Она вспомнила Иуду. Чем он хуже, чем обычный наемник, стреляющий из-за угла? Или стражник, колющий копьем? В чем, собственно, разница? И тот разит насмерть, и этот. Она подумала: разве дело в смерти? Нет, дело в разочаровании, в обманутых надеждах. Скажи больному, что он обречен – он завершит все свои жизненные дела и будет готовиться к уходу. Но если ты скажешь его родственникам, что больной должен, по идее, умереть, но есть надежда, что он поправится, выздоровеет и все будет хорошо, а больной все-таки умрет, несмотря на все надежды, – выходит, ты убьешь его дважды. Считается, в надежде – жизнь, «пока живу – надеюсь», но вместе с тем пессимисты правы – никогда нельзя надеяться на лучшее. Если оно не наступит, разочарование будет еще горче.
Сенбернар Сеня поел и лег у двери. Тина посмотрела на него и стала одеваться. «Сейчас пойдем…» Сеня поднял голову, снял поводок со специального крючка и положил его рядом с собой на пол. Тина посмотрела на крючок. Его вбил Азарцев. Когда? Всего два месяца назад, после Нового года. Тогда Азарцев ее еще любил. ЛЮБИЛ? Да полно. Она просто надеялась на это. Бернард Шоу утверждал, что каждый настоящий врач должен уметь лгать. Причем не просто лгать, а лгать с чувством оптимизма. Оптимистическая ложь. Зачем она нужна, особенно себе, если в прозрении кроется величайшее несчастье?
Тина, уже одетая, прошла в кухню, взяла молоток, вернулась назад в коридор, подвинула Сеню и с размаху ударила по крюку. Он погнулся, но не отлетел. «Аккуратно вбил, – подумала про Азарцева. – Он все делал аккуратно. Только неаккуратно спал здесь, на полу, с этой красавицей прямо на ее шикарном пальто. Дверь позабыл закрыть на внутренний замок». Она сглотнула и подавилась слюной, закашлялась, захлебнулась. Побежала в ванную, там ее вырвало. Сеня мордой приотворил дверь, сидел, внимательно смотрел на нее. Сбоку рта у него повисла вязкая капля слюны. «Мне тоже надо ходить с открытым ртом, чтобы не захлебнуться». Она отдышалась, умылась. «Сейчас, Сеня». По дороге к двери снова взяла молоток. Грохнула так, что вместе с крючком отлетел еще и кусок штукатурки. Мышонок Ризкин пискнул и спрятался в клетку. Тина бросила молоток, открыла дверь и пропустила Сеню вперед: «Пойдем», и, заметив валяющийся на пороге сплющенный, измятый крючок, пинком выкинула его из квартиры на лестничную площадку со странным удовлетворением. На грохот открылась дверь в квартире напротив и тут же закрылась. Сеня стал спускаться вниз, она пошла за ним. Ей было так же плохо, и эпизод с крючком ничего не изменил. Она молчала, но если бы в это время кто-нибудь сказал ей что-нибудь обидное, она могла бы убить его, покалечить, потом убить себя, разрушить весь дом, взорвать целый мир. Но, к счастью, ей никто не встретился. Она вышла на улицу. Во влажное, еще снежное, хлюпающее под ногами вязкое мартовское московское утро. И в это самое время второй раз за день у нее зазвонил телефон – на этот раз в кармане.
4
Ашот в самолете спал. И снился ему не теплый Восток с его вечными традициями гостеприимства – с накрытыми во дворах столами, – не шашлыки и фрукты, не сладкое вино и не вражда и война, которые случились там, в городе его детства, уже после того, как он из него уехал. Не снился ему и наш слякотный Север с плохой погодой семь месяцев в году, от которой столичные жители прячутся в золоченом и людном метро. Тот самый наш Север, с которым Ашот уже давно сроднился: с его суматохой и склочностью, красавицами девчонками, усталыми женщинами средних лет, подвыпившими мужиками, грязными автомобилями на переполненных улицах, с толстяками-гаишниками в лимонных жилетах, роскошными ныне банками и преисполненными достоинства депутатами.
А приснился Ашоту пахнущий воздушной кукурузой, жареными сосисками и кофе Запад – небольшой американский городишко с довольно зачуханными улицами в центре, но с аккуратными частными домиками на окраине. С бензоколонками, кегельбаном, магазинчиками на каждом углу и голубыми бассейнами в каждом приличном дворе с непременным газоном. Тот самый городок, где ныне жила его семья – оба брата с женами и детьми, говорящими по-английски – ведь они родились уже тут, на этом жарком Западе. И здесь же, будто нарочно сменяя поколения, один за другим, нежданно-негаданно, без всяких видимых, казалось, на то причин, умерли один за другим его родители – сначала отец, а через несколько месяцев – мать. Он сам приехал сюда последним из семьи. И прожил здесь эти нескончаемые два года. И даже работал – получил лицензию на то, чтобы делать педикюр американским пенсионерам. Пытался говорить с ними по-английски – так, как учили в школе и на курсах, и убедился, что его никто не понимает. Выучил тот сленг, на котором разговаривали они. Иногда отвечал на вопросы этих старых американцев – о перестройке и все еще о Горбачеве. В ответ выслушивал нескончаемые рассказы о величии Америки и силе ее народа. Сдавал он и экзамены – сначала, чтобы взяли на работу кем-то вроде уборщика в больнице, потом социально дорос до санитара. Он стал известен соседям по улице словно Фигаро, который знает, как полечить больной зуб, что дать от прыщей, чем помазать ранку ребенку. Жаль ему было только, что никто из соседей, кроме полячки Ванды, приехавшей в Америку лет на десять раньше него, не знал, кто такой Фигаро и чем он знаменит.
Он уже собирался в самом скором времени получить диплом специалиста по прокалыванию ушей, и брат с сестрой советовали ему уйти из больницы и открыть свое дело, что-то вроде крохотного педикюрного кабинета, как вдруг Ашот объявил, что должен съездить в Москву.
– Что ты там забыл? – не понимали его родственники, а он не мог им объяснить, зачем ему надо обязательно ехать. Но что-то неуловимое произошло в нем самом, от чего его стало тошнить и от маленького городка, который, объективно говоря, несмотря на всю его тошнотворность, по своему жизненному устройству все равно мог дать сто очков вперед какому-нибудь нашему районному центру, и от старых американцев в клетчатых рубашках, и от аккуратных газонов, и, самое главное, от работы санитара, педикюрщика и прокалывателя ушей.
– Что ты врешь, что ты ерунду мелешь! – восклицала и удивлялась «старшая женщина» их теперешней семьи, жена его старшего брата Сусанна. Она была прекрасной полной армянкой в самом соку, с луноликим лицом, с полукружиями ровных бровей, но в то же время было уже в ней и много американского – любовь к хлопчатобумажным брюкам вместо черных широких юбок, к кока-коле, к барбекю на лужайке, где вместо сочного барашка жарились толстые, глупые сосиски.
– Не слушайте его, он говорит вам неправду! – возмущалась она и негодующе взмахивала полными загорелыми руками. – Америка, видишь ли, ему не нравится. Да Америка, если хочешь знать, – это сталинизм с человеческим лицом! Какой везде порядок! Нам и не снилось. Пиво на улицах пить нельзя. Окурки кидать нельзя. Подросткам без паспорта и без сопровождения взрослых спиртное не продают. Детям курить не разрешают. Если кто кошку на улицу выкинул – штрафуют. Ты в машине остановился на улице – полицейский подъедет, спросит, что у тебя случилось. Проводит туда, куда надо, одолжит свой насос или что-то еще, вызовет эвакуатор, даст таблетку от сердца. Нет, мне в Америке очень нравится! Разве твой брат, мой муж, армянин, у нас в Баку, где мы прожили всю жизнь и откуда нас выгнали в двадцать четыре часа, мог бы иметь свою фирму и такой дом, как у нас здесь, в Америке? И, кстати, этот дом может быть и твоим домом, Ашотик, стоит тебе только захотеть жить с нами одной семьей.
– У тебя прекрасный дом, Сусочка, – отвечал Ашот, а все вокруг него молчали, не зная, как участвовать в этом споре. – Но мне в нем нечего делать. Ты живешь только этим домом, детьми, своим мужем. Ты здесь не работаешь, не ходишь в театр, не слушаешь оперу, а в Баку, между прочим, частенько ходила… Тебе даже на твоей просторной кухне здесь не о чем разговаривать с соседками. Политические новости здесь никто не обсуждает, в кино ходят только подростки, а местные сплетни тебе неизвестны, потому что с тобой здесь ими никто не делится.
– А спроси, спроси ты своего второго брата, – не унималась Сусанна, – что ему больше нравится? Преподавать философию в институте рыбного хозяйства, чем он занимался после окончания университета, или разъезжать по огромной стране в комфортабельном грузовике нашей фирмы, совладельцем которой он тоже является? И ты бы мог так же работать, если б захотел, если бы понял, что то, отчего ты ушел, все эти посиделки на кухнях, осталось там, на далеком Севере, а здесь к тебе грядет новая жизнь… – И Сусанна вскакивала, встряхивала браслетами и перемещалась туда, где ждал ее небольшой дворик, с аккуратным, подстриженным газоном, навстречу возвращавшимся из школы детям. (Учительница говорила, что они подают большие надежды. Они даже смогут получать стипендию в колледже!)
– Жаль, что ты не помнишь, Сусанночка, – кричал ей вслед в своем сне Ашот, – как наша мама говорила, что все отдаст, чтобы ее дети получили хорошее образование: старший стал бы инженером, средний – гуманитарием, а уж младший – врачом. И что она просто умерла бы со стыда, если бы узнала, что ее дети стали торговать на рынке луком или виноградом или даже водить грузовики с помидорами и зеленью. А колледж этот местный, – Ашот во сне даже пинал ногами воздух от возбуждения, что проявлялось наяву тем, что он сотрясал спинку сиденья впереди сидящего пассажира, – на самом деле прибежище для дебилов. Нечто среднее между ПТУ и педагогическим техникумом, где историю искусств учат вперемежку с кулинарией и слесарным делом. Правда, изучают и то и другое на компьютерах! О, какие замечательные компьютеры стоят в этих прекрасных свободных классах! Но чтобы твоим детям, Сусочка, выучиться всерьез – на дипломата, летчика или врача, им придется пройти здесь через весь этот ад местных колледжей с потерей нескольких лет, пока они доберутся до возможности поучиться где-нибудь повыше и подороже. А твой муж, мой брат, при всем желании не сможет обеспечить им легкое получение образования всей своей клубникой, собранной в Южной Америке. Так что ты, Сусанночка, может быть, вспомнишь еще те времена, когда ты сама, прямо из-за школьной парты, из школьной коричневой формы с фартуком и большим белым бантом в волосах выпрыгнула сразу в прекрасный Институт народного хозяйства. И получила там специальность не какого-то там недоучки повара-искусствоведа, кем будет через два с половиной года твоя дочь, а инженера-технолога, специалиста по изготовлению и хранению колбас и мясных деликатесов. И в том, Сусанночка, что по праздникам мы всей семьей ели вкуснющую копченую колбасу, сделанную под твоим руководством, тоже была своя прелесть! Забыла?
– Я помню, – сказала Сусанна. – Я все помню, вкусная была колбаса. Но только в Москве сейчас без денег тоже не пробьешься в прекрасный Институт народного хозяйства. А я, в принципе, если захочу, могу и здесь открыть небольшой цех по изготовлению домашних колбас. И это будет стоить, кстати, гораздо меньших хлопот, чем в Москве…
– Здесь тебе не дадут это сделать, потому что ты тогда составишь конкуренцию местному производителю, который гонит дешевые сардельки из куриной кожи и бумаги.
– Да ну тебя, Ашот, – махала на него Сусанна. – Все ты критикуешь, все тебе здесь не нравится!
И этот разговор с Сусанной в Ашотовом сне был таким реальным, таким наболевшим, что он, как это часто бывает с людьми, сознающими, что они на самом деле спят и видят сны, не хотел просыпаться, не досмотрев его и не доведя до конца свой спор.
А это нужно было сделать – закончить, подвести итоги, оправдаться, в конце концов, почему он сейчас не трудится в поте лица в этом маленьком городишке на Западе, а летит в самолете на слякотный Север. «По делам», – как объяснил он по телефону Барашкову, а на самом деле просто так, побродить, погулять, повидать знакомых, убедиться, где же все-таки лучше – там или здесь, даже потратив на эту прихоть все заработанные за два года деньги. И съездить в Петербург, чтобы повидать все те места, которые так любила Надя. И этим как бы снова встретиться с ней.
– Между прочим, и мама, – говорил во сне Сусанне Ашот, – хоть и с удовольствием грелась на солнышке на террасе твоего американского дома, а вздыхала о прошлом, о своей небогатой молодости. И мне всегда было ясно, что не заменит ей этот аккуратный газон прежнего садика с помидорными грядками и старым шлангом, змеей тянущимся от кухонного окошка под наши абрикосовые деревья.
– На, успокойся, поешь! – протягивала ему на пластмассовом подносе гамбургер добрая Сусанна. На разрезанной пополам булочке лежали бледные листья салата, малиновые кружочки салями, колесики перца и тепличный помидор из тех, что партиями возил на продажу брат. Рядом стояла бутылочка кока-колы.
– Я не голодный, – отвечал Ашот. – Был бы голоден, все бы съел. Не сердись, дорогая, но аппетита у меня тут нет. И, если говорить честно, эта салями – не колбаса!
– Ой, скажешь! – хмыкала Сусанна.
– А московские булочные, Сусанночка! – не унимался Ашот. – Из чего, интересно, делают здесь эти булочки, дорогая? Они не имеют ни вкуса, ни запаха.
– Из самой лучшей в мире аргентинской пшеницы, – ворчала Сусанна.
– Я хочу в Москву, Суса! Я скучаю по московской слякоти, кто бы мог подумать?
– Так зачем ты тогда ехал сюда? – Сусанна смотрела на него своими добрыми армянскими глазами, она не умела злиться всерьез.
– А там я скучал по всем вам! А теперь хочу назад, в тот холод и сырость. Я скучаю по своей больнице…
– Ужасной больнице, судя по твоим рассказам!
– Возможно, – легко отвечал Ашот. – Но я по ней скучаю. Скучаю по своему отделению. И, черт возьми, я – культурный человек и хочу сходить в театр и посмотреть какую-нибудь пьесу на понятном мне языке. Ну, почему вы не хотите вернуться назад в Москву? Детям там было бы лучше!