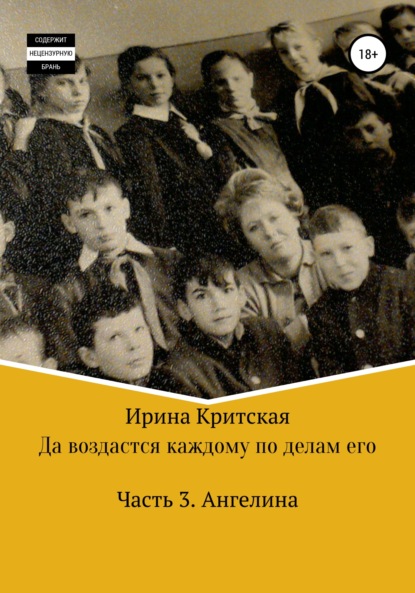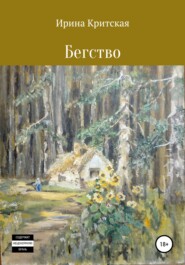По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть 3. Ангелина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У нее второй-то в таборе помер, говорят – лошадь затоптала, их же. И вроде помешалась она, дурная стала, никого не узнает, все карты кидает, целыми днями, да на коне носится по степи. Я сама не видела, но люди говорят. Ты вот что. Тут этот, цыган твой набегами бывает, дитю возит всякое, так не лезь. У тебя муж, ребенок, хватит, побегала. А то он все глазами на твое окно стрижет со двора, я тут занавеску у тебя вешала, видела его.
Геля молчала, только гладила по кудряшкам, обнявшую ее за коленки Ирку.
– Черный стал, что ворон. Горбатый, худой. С бородой еще, лохматый черт. Злой, говорят, как подменили его, то ли порча, то ли беда ломает. Держись подальше, Ангелин, добром прошу. Кстати, Виктор приезжает десятого трехчасовым. Сказал, хочет развод получить. У него там пассия. Сама виновата, такого мужика упустила. Не давай развод, дурында, так и будешь мотаться приблудой, у вас дочь.
– Мам, пошли. Ирка устала, да и я. Потом поговорим.
Помолчала, с силой потянула калитку, еле открыла.
– Пусть. Он свободен, мам. Не хочу…
Во дворе, в благодатной тени двух огромных вишен стояла Пелагея, сложив руки под фартуком на сильно пополневшем животе. Увидев Гелю, растрогалась до слез.
– Детка ты ж моя, золотэнька. Бог дал, ведь приехала. Дед-то придет сейчас, на рынок пишол, за хлибом. Ох, ты же наша ридна, как же мы тоби ждали. Иды, раздэнсь, там тоби чистенько мать все кинула, иды. Ирусь, ходи до бабы, пусть мамка виддохнет.
Забрав совсем размякшую от жары девочку, Анна пошла во двор и уложила ее под вишней, на брошенное одеяло. Накрыла простынкой, на цыпочках отошла.
– Пошли. Она любит тут днем спать. Сама с часок полежи, потом обедать будем. Бабка там вареники с творогом накрутила, да со сметанкою, да с вареницем прошлогодним. Это тебе не картошка с колбасой. Пошли.
…
Тихий вечер пах теплой речной водой и цветами. Геля уже забыла, что бывают такие вечера. Накрутившись до самого вечера, набегавшись и наигравшись до одури с Иркой, она долго убирала с матерью огромную темную кухню, потом вычищали двухлетнюю грязь из Гелиной, теперь уже на двоих с дочкой, комнаты. Туда поставили кроватку, перетащив ее из крошечной комнатушки Анны. Потом мыли Ирку, отмачивая цыпки и ссадинки в теплой воде, нагретой в большом алюминиевом тазу.
Смазав потрескавшиеся ножки сливочным маслом, Геля натянула на нее белоснежные носочки с вишенками, но увидев, как дочка радостно сиганула прямо в них на мураву, проскользив, как на коньках и плюхнувшись на попу, она плюнула и оставила Иркину красоту в покое. Часам к десяти, с трудом уложив разыгравшегося ребенка, все сели пить чай с медом, и долго сидели, наслаждаясь тишиной. Дед все гладил Гелю по руке, и слезинка из левого глаза, ставшая уже постоянной, катилась все чаще.
Совсем стемнело. Анна дремала, поджав ноги прямо на лавке. Баба Пелагея подсела ближе.
– Алюсь. Ты мать не слушай, сердце свое не неволь. Не можешь с Виктором, не ссильничай сама себя. Я свово мужика схоронила, а деда твово вон сколько ждала, ажник пять лет. Дед-то, Иван наш тады женатый был, не знаешь небось. Женка у него падучей болела, в день по три раза с пеной билася, а еще и сынок у их был, малэнький. Потом господь прибрал его.. Тогда уж Иван со мной, как муж жил. Но женку не оставлял, заботился. Я ругалась сильно, глупа была, а вин ни шел со свого дому назовсим. Кормил ее, мыл, белье менял, а я одна куковала. Пелагея, как всегда, путалась, мешала слова..
– Думала, не буду с ним, с Иваном жить-то, меня богатый из Карая высватал, я знаешь – справна была, товстА, с две тебя может. Он дом за меня отдать норовил целый, да уперлась я, як коза. Все ждала. А Иван пришел, когда женка померла, поясной поклон отвесил, прости, говорит. Но не мог по-дрУгому, простила я его, чего уж там. Приняла, он домовитый, столярничал, вона как сейчас. Печку мне переклал, мебель сделал нову. Да и любовь у нас, детка, как свечка горела, ровная. яркая. Там и детки. Бог дал, хорошо жили, все было. И голод и война, а дружечка дружечку за руки держали крепко, не оторвать.
Из дома выглянул дед, зевнул, перекрестился:
– Ты, Поля, долго кулюкать будешь еще, в хату давай, ночевать уж пора. Али корову я выгонять буду, девка?
Пелагея вытерла рот краем платка, встала.
– Вот и ты, детка золотая. Жизнь длинная, пока всю перейдешь, ноженьки стопчешь. Так со своим-то, рОдым идти сподручнее. Жди его. Сколько бог велел.
Откуда-то из глубин своего темного, необъятного платья бабка вытащила скомканный платочек, покопалась, достала крестик.
– Я у тебя цЕпочку видела. Вот и надень на нее. То твой, святой крестик, крестильный. Бросили тады, Евдоха с мамкой, нехристи. Да божью матерь молИ, она наставит. И Господу поклонись нашему, не надломишься. Проси, девонька, наладится все.
Бабка перекрестила Гелю широко, порывисто, размашисто и пошла в дом. Геля завернула крестик в платочек и, неожиданно для себя, поднесла к губам…
…
– Ирка, ну-ка давай, догоняй.
Геля с Борькиной Линой, полной, даже дебелой, томной, ленивой женщиной с белой, не тронутой ни загаром, ни румянцем кожей, брели по пляжу, увязая в раскаленном песке. Борька, подтянутый, жилистый, дочерна загорелый, почему-то в офицерской белой потертой фуражке, пружиня сильными ногами, тащил лодку, увязнувшую в илистой грязи берега. Собирались на рыбалку, но не было Галины с мужем, они вечно опаздывали.
На причудливо изогнутом стволе старой ивы, прислонившись к толстой ветке спиной и некрасиво раззявив рот, дремала Анна. Ирка, бежала за матерью семеня толстыми ножками, запыхавшись, но не отставая. Если вдруг попадался песчаный холмик, она встав на четвереньки, перебиралась через него быстро, ловко, как зверушка. Тоненький зеленый сарафанчик с лямочками крест-накрест на спине, почти не защищал ее от солнца, но девочка жары не боялась, ее тонкая смуглая кожа запросто переносила палящие лучи и никогда не обгорала. Наконец, она догнала мать и обхватила, прильнув к ноге. Геля одним легким движением подхватила девочку и посадила на сгиб руки.
– Ну и где эта овца? Муж красоту свою потрясающую надраивает, скоро рыба передохнет его дожидаясь. Вон вода в речке какая, скоро закипит.
–Таааа ладна.
Борька игриво поиграл усом, щипнул Лину за упругую задницу и белозубо ухмыльнулся.
– Мы вон, ща с Линкой за кусток на часок. А то чота от жары чуйства прут. А жена моя рОдная? Давай, угости мужа-то?
– Наглый ты Борис, до ужаса прямо.
Лина лениво пожевала травинку, сплюнула, поправила, никого не стесняясь полную красивую грудь, пристроив ее поудобнее в тесной чашке модного купальника.
– А кого стесняться -то. Опа! Жена своя, чо хочу, то и ворочу.
Геля с интересом наблюдала, как минуты через три, Лина вальяжно, почти в развалочку, откинув назад пышную волну светлых волос, пошла через прибрежные кусты в ивовые заросли. А Борька, ухмыльнувшись, мягко, по кошачьи шмыгнул следом.
– Тьфу, паразит. … Ну славааа богу. Явилися, не запылилися…
Анна проснулась, потянулась слегка, вытягивая занемевшую спину, подошла к Геле, забрала хныкнувшую Ирку.
– Ты язык – то свой не корежь, не деревня, городская ведь. Да детей учить будешь потом – «явилися». Следи за собой. И не поздно, сейчас по ночам сыро что-то, застудишься – лечиться тут замаешься. И Гальку берегите, мужу – то ее все не до нее, красавец.
Кругленькая, как шарик, в коротком платьице, обтягивающем уже довольно большой живот, Галя уже докатилась до них. Сзади, отстав на пяток метров, мерил берег длинными, как циркуль ногами ее муж, Владимир, красивый чернявый полу армянин – полугрек.
– Надо же, одни Володьки вокруг. Это нарочно, что ли?
Геля прыгнула в лодку, подала руку Галине.
– Поехали. Эти голубки на второй пускай, когда отлюбятся.
…
Ночь была и вправду немного сыроватой, видимо собирался дождь. Мужчины потащили рыбу, ее было не так много, но поесть назавтра хватит. Гальку забрала Лина, та немного озябла и куксилась.
Геля медленно брела по улице к своему двору. Она не пошла огородом, хотелось немного пройти, подышать… подумать. Тяжелый букет, скорее связка желтых, слегка пахнущих тиной кувшинок оттягивал руку, и она тащила его почти по земле, макая упругие пружинящие стебли в остывающий песок.
У палисадника ей перегородили дорогу. Кто-то сильно сжал руку, чуть выше локтя и развернул Гелю к себе лицом.
– Здравствуй, раны, сыр дживэса?*
– Руку отпусти, Лачо, больно.
– Так и у меня болит, золотая, душу ты мне всю сожгла, жить как? Все убила, семью мою околдовала, ведьма.
– Ты себя спроси, как это получилось. Ты ушел, не я. Да что ворошить прошлое, ушло оно, все давно сгорело. Отойди, дай пройти.