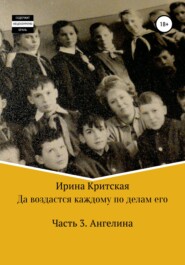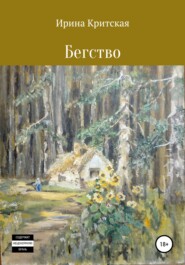По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть 2. Алька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты мне лекцию прочитай! А я тебе салют просалютую – во как!
Она легким и неприличным движением задрала юбку, в момент развернувшись спиной к Геле и выпятив задницу. Ярко алые трусы мелькнули флагом. Алька даже попятилась.
– Ладно! Не журысь!
Мира потрепала Альку по подбородку теплой душистой ручкой и метнулась в коридор…
Мира жила с мамой, вернее – мама жила для нее. Мать работала одновременно на трех работах. Готовила, стирала, мыла, убирала, шила, делала одновременно сто разных дел, приползала домой на карачках, была худой, даже изможденной, но жилистой. Зато Мира ни в чем себе не отказывала. Она ходила к учителям и иностранного и музыки, писала акварелью и обожала патлатых художников в беретках. Художники тоже обожали Миру, приходили к ней пожрать и дарили акварель. Мира складывала акварель у двери своей комнаты. Наверное, на черный год или для растопки. Правда, покоробленной от водянистых красок бумагой никто и никогда ничего не топил, но выбрасывать не решались. Все же живопись.
В темном проеме коридора Мира на секунду остановилась и сверкнула беленькими, остренькими зубками.
– Иди, учи уроки, гадкий утенок. Зайди ко мне вечером, я тебе расскажу, чего с этим делать. Мать молчит, небось думает, что у пионерок ТАМ – только сила воли…
Алька (теперь мама звала Альку Гелей, стараясь угодить своему новому мужу, утонченному и капризному, как гимназистка) и вправду была гадким утенком. Тоненькая девочка растворилась в неуклюжем и даже громоздком теле. "То ли недоросль, то ли переросток" – смущенно посмеивалась мама, перешивая очередное платье из своего ношеного, потому что предыдущее, сшитое всего три месяца назад, неприлично вздергивалось над острыми коленками. Толстые, длинные рыжие косы Анна сворачивала Альке тугими колёсами, отчего получалась странная, баранья голова. Завязывала все это великолепие двумя пожухлыми тряпицами. Черные туфли – боты без каблука делали ноги короткими и толстыми, они выглядывали из-под длинного темного, в белый горох платья. Да еще сутулые плечи (Алька сутулилась, стараясь хоть немного спрятать не по времени выпячивающуюся грудь).
Но главное, самое неприятное, это было лицо. Алька с отвращением смотрела в зеркало, втихаря от мамы приоткрывая тяжёлую дверь здоровенного шифоньера, наследство папы-Зама. Оттуда, из неверных глубин, на нее глядела без ресничного создания, с белой, как сметана, кожей, покрытой россыпью мелких противных веснушек. Немного спасали дело пухлые губы, но они были вечно обветрены, как два шершавых пельменя, потому что Алька имела неприятную привычку вечно их облизывать. Глаза тоже были ничего себе, травянистого оттенка, но ресницы! Их не было совсем! Вернее, они были и даже длинные, но их было совсем не видно из-за мерзкого и блеклого рыжего цвета.
К своим тринадцати Алька/ Геля уже забыла про богатую и нарядную Ангелину. Папа умер, из особняка мать поперли сразу, и хорошо, что дали крошечную комнатку в тесной коммуналке. Утонченная Анна сначала очень страдала, стирая белье в обшарпанной ванне и развешивая его на виду в общем коридоре, покрытом масляной краской мутного коричневого цвета. Но жизнь шла, и оказалось, что всё не так уж плохо, в этом аду можно выжить, и даже неплохо жить. Появились и знакомые, даже друзья.
Раневские… Лидия и Вацлав. Интеллигентная семья, неизвестно как угодившая в "этот вертеп". Лидия, выпав из привычной среды, ожесточилась, приземлилась, окрепла что ли. Пожелтели кружевные оборки нарядных кофточек, стоптались носочки лакированных туфель и притухли лучики от шикарных брошек чешского стекла, но привычки! Привычки Лидия менять не собиралась. По-прежнему, Вацлав по утрам кушал тоненькой серебряной ложечкой яйцо всмятку, или гурьевскую кашку. Алька, с ненавистью давившая по краям тарелки жесткие комья пшенки на воде, с интересом, искоса наблюдала, как Вацлав выламывает с поверхности рыже-масляной манки ломкие хрустики леденцово застывшего сахара. Он откладывал их на блюдечко с поджаренными тоненькими ломтиками белого хлеба. Алька тщательно отводила глаза, но они сами косили в сторону этого блюдечка, и ничего нельзя было с этими глазами поделать. Правда, блюдце никогда не исчезало вместе с остальной грязной посудой. Забывчивая Лидия была неисправима и никак не могла про него вспомнить… И только, к вечеру, быстро хватая его, чисто вымытое, стоявшее с краю, у раковины, рядом с чистыми сковородками и кастрюлями косила на Альку хитрыми, чуть подкрашенными глазами.
– Геленька! Позвольте угостить Вас кусочком пирожного. Я пекла его сама, по рецепту своей мамочки. Вам понравится, я уверена, а пожелаете, я вас обучу…
Пирожное было таким.... Две тонюсенькие пластинки, хрустящие, нежные, полупрозрачные, сделанные из каких-то ароматных крошечных семечек, соединялись между собой субстанцией, сотканной ангелами из воздушности весенних облаков. А сверху – два лепестка …
– Алька чувствовала, что слюна едкая и сладкая просто душит ее и она ничего не может с ней поделать. Глаз было не оторвать, и она приостановилась.
– А…все просто, детка. Там кунжут и сливки. Немного хорошего яйца и розовая настойка. Попробуйте, не стесняйтесь…
Алька протянула дрожащую руку, но сзади хлопнула дверь, и кто-то резко отдернул девочку
– Лидия. Нам всего достаточно! Геле нельзя сладкого, оно ее полнит. Вы видите, она и так не может натянуть ни одно платье! Мне стыдно в школе, такое чувство, что мы пошлые хапуги. Геля, я тебе не разрешаю!
Алька отдернула руку и в горле стало горько и горячо. И стыдно…
– Не ной. Еще не хватало нам, как бедным родственницам, подачки принимать. Вон, баба Пелагея масла передала свеженького. Хлебушка тоже, сама пекла. Так что, давай ка, я тебе лучше всякого пирожного сейчас сварганю.
Мать отрезала толстенный кусок серого пахучего хлеба, такого мягкого, что, казалось, он дышит, намазала его маслом и сверху плюхнула целую ложку только-только начавшего застывать меда. Алька стояла, надув губы.
– Давай-давай. Не каждый день у нас такая-то еда с тобой. И налила дочке здоровенную кружку чая из старого закопченного ковшика, чайника у них не было. Мед таял, смешивался с маслом и янтарными каплями тек по рукам. Алька слизывала их, и тихонько всхлипывала про себя. Было так вкусно…
– Геееель… Иди сюда…
В темном коридоре не было видно не зги… Но, в отсвете маленького окошка под потолком, Алька увидела тень, сутулую и вихрастую. Петро! Опять!…Что вот ему надо?
Петро был и счастьем, и наказанием Раневских. Сын родился поздно, после войны, долгих голодных лет ожидания, желания иметь детей и страха. Ему было еще только тринадцать, но большое неуклюжее тело созрело рано, гораздо раньше, чем надо. А вот остальное…запоздало. Сначала ничего не указывало на беду, но в три года Петро еще не научился сам держать ложку. И когда все стало ясно, надежды уже не осталось…зато осталась любовь. Лидия обожала сына и волчицей бросалась на каждого, кто осмеливался хотя бы просто косо посмотреть в его сторону…
– Геля. Смотри что у меня есть....
Алька, в темноте натыкаясь на подвешенные велосипеды и корыта, пробралась к мальчишке, развернула его так, чтобы отсвет падал точно на них.
– Ну?
Петро протянул ей тарелку. На тарелочке, все помятое и изломанное, но от этого не менее желанное, лежало оно…пирожное… Совершенно не понимая, что она делает, вечно полуголодная девочка схватила и одним всхлипом -втягом втянула его в рот. И тая от наслаждения вдруг почувствовала, что Петро, неуклюже обхватив ее сзади, схватил за грудь и лапает, быстро, жадно, как-то по собачьи дыша и всхрапывая. Алька резко развернулась и толкнув его изо всех сил, вывернулась. Петро упал и ударился головой о край кованого сундука. Дверь комнаты Раневский распахнулась. Лидия, с белым как бумага лицом, бросилась к сыну.
Что происходило дальше, Алька помнила плохо. Милиция, суд, стыд. Петро долго лежал в больнице, плохо и трудно поправлялся. Лидия похудела в три раза, на всех слушаниях обвиняла Анну за плохое воспитание дочери – конечно, выманить больного мальчика, заставить принести пирожное, а потом попытаться его развращать, чтобы он принес еще…
Алька молча смотрела и слушала. Она ни слова не сказала о том, что произошло в темном коридоре. Она не оправдывалась и ничего не отрицала. Обвинять больного маленького мальчика казалось ей кощунственным и подлым. И только, когда прозвучало слово "Интернат", похожее на зеленый, длинный и глухой забор, она тихонько заплакала.
***
Старая, прямая, как палка, седая и строгая судья стукнула молоточком.
– Все, что произошло, чистая случайность…
Алька слушала долгую речь судьи, ничего не понимала, и только чувствовала, что она то краснеет, то бледнеет, ее бросает то в жар, то в холод. Ей казалось, что сухое, как пергамент, лицо то отдаляется, то приближается, голос звучит то звонко, то глухо. И вдруг, застучали молоточки в висках, стенка прыгнула прямо на нее и стемнело.
Суд постановил оставить Гелю с мамой. Петро выписали, он стал еще толще, и безумие еще глубже утянуло его в свою трясину. Но Алька каждый день приходила к нему, сначала втихаря, потом с разрешения Лидии. Она листала ему огромную азбуку и читала сказки. Гладила по огромной потной голове и поила с ложки маминым компотом. Они вместе ходили гулять и долго бродили по заснеженным улицам. Алька следила, чтобы у мальчишки не падали варежки, крепко держала за руку, так чтобы косолапые ноги не разъезжались, и дурачок не упал. Она чувствовала к нему какую-то странную нежность. Эта нежность поселилась в ее сердце и согревала каждый раз, когда она видела малыша. И особенно, если этот малыш страдал. Тогда боль резала ее сердечко, никогда не оставляя его равнодушным…
– Геля, Петро, домой, темнеет уже. Обедааать…
Лидия, постаревшая, подурневшая, смотрела в окно и махала им рукой. Алька помахала в ответ, взяла дурачка за руку и повела к крыльцу. Она не испытывала к ним ни вражды, ни обиды, наоборот. Только жалость. Только желание помочь. Только любовь. Они шли по заснеженному, темнеющему двору, поддавали валенками льдинки и Геля тихонько играла в кармане маленьким, пушистым синим шариком, невесть откуда взявшимся…
Глава 5. Родительская
– Алюсь! Ну пошли, давай, хватит уже копаться! Красава!
Под окном, в бело-розовой, ажурной тени отцветающих яблонь, нетерпеливо и упруго играя сильными точеными мышцами стоял Борька. Он зажал в зубах цветок яблони, и, глядя в отражение в стекле, поправлял темно-русые, волнистые пряди, растрепанные свежим ветерком.
– Там Толик уже матерится. Ждут тебя все, сколько можно-то?
Аля хорошо знала характер своих горячих двоюродных братцев и решила поспешить, на всякий случай. Последний раз вертанулась перед стареньким мутным зеркалом и осталась довольна. Не зря она всю ночь строчила на бабушкиной машинке, мастеря себя юбку-колокол из замечательной занавески, найденной в комоде. Юбка получилась шикарная, отороченная по краю кружевом и наплевать, что слегка пожелтевшим. Алька туго стянула поясок на талии и задумчиво постояла, поправляя широкие бретельки лифчика. Надо было подобрать кофточку. Ну, это много времени не займет, кофточки у нее всего две – одна старая, серая, вроде как пыльная от прожитых лет, с растянутыми плечами, которую ей отдала мать, а вторая- беленькая, шелковая, с атласной вышивкой. Эту красоту с барского плеча кинула Мира. На груди, правда, розовело пятно, но Евдошка мастерски вышила нежнейшую розу, и теперь кофточка была Алиной гордостью.
Прыгая то на одной ножке, то на другой, на ходу натягивая тапки, Аля проскочила через темную мрачную кухню, мимо резных сундуков и мушиного гула и выскочила в сени. С трудом открыла тяжёлую дверь и зажмурилась от яркости и сияния деревенского неба, цветущих яблонь и зеленой до рези в глазах травы. Она только вчера приехала на каникулы к бабке с дедом, и еще не отвыкла от приглушенных красок Москвы.
"Фььиииии", -присвистнул Борька- "Не хрена себе…"
Два года он не видел сестру, забыл уже, как она выглядит. Стоя на вокзале, он напряженно вглядывался в сошедших с московского поезда пассажиров и еле узнал сестру. Стояла на перроне какая-то незаметная девчонка в наспех повязанном платке и бесформенной кофте. Скрючилась, как старушка, наперекосяк, потому что руку ей оттягивал квадратный чемоданище…
"Мышь!" – подумал парень, – "Что с них взять, с городских. Нескладная лупоглазая рыжуха, закаканная веснушками…"
Борька знал толк в девках! К своим девятнадцати, он был не любитель, а почти профессионал! В начисто вылизанной комнате, на выбеленной до голубизны стене висел собственноручно выписанный лозунг – "Всех девок неперее.... Но надо к этому стремиться". Слово было матерным и мать постоянно стаскивала листок, рвала его и ругалась. Борька хитро поводил идеальным усом, чуть усмехался и листок появлялся снова, краше прежнего.
Он еще раз глянул на сестру. Не вскользь, как раньше – внимательно и не торопясь оглядел.
– Ну ты даешь! Красивая становишься,
Аля стояла на крылечке и солнце насквозь пронизывало тоненькую одежду, обрисовывая контуром стройное тело. Лучи путались в тугих рыжих завитках, выбившихся из толстенной косы, небрежно кинутой на грудь, и загораясь от них золотым огнем, искрили. Коса была с руку толщиной, перекинутая через плечо, она доходила почти до колена. Нежная алебастровая кожа, как у всех рыжих (да еще чуть похлопанная рукой, потертой о побеленную стенку, чтоб скрыть чертовы веснушки), пухлые розовые губы. Тяжелые, темно-золотые ресницы, были хоть и странными, но не портили, вот только брови… Брови Аля неумело подрисовала закопченной щепочкой.