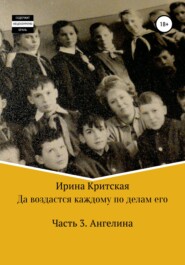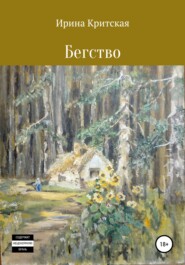По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Вот сволочь…", – томная, как египетская пирамида, Надень, обладательница раскосых узких глаз неземной красоты и пухлого рта розовой гузкой, сплюнула вслед взбрыкнувшему задними колесами транспорту, поднявшему легкий пыльный бурунчик, – «Сам ведь… с преподницей физвозников. И ничо так, про меру не знает!»
Мне все эти тайны двора были не интересны. А вот куда потащил свой рюкзак Сергей, захватив по дороге поганый Светкин чемоданище, было интересно очень. И я, подхватив Ленку, зазевавшуюся на статного армянина из соседней группы, потащила ее вверх по лестнице вслед за удаляющейся сладкой парочкой.
***
Жизнь на биостанции закружила нас хороводом. Это было какое-то потустороннее существование, непривычное, здоровское, никак не вязавшееся с обычным студенческим московским бытом. В Крюковском лесу расположилась база, странным образом, но очень естественно растворившая в себе очень разный люд. Там прекрасно себя чувствовали высоконаучные преподы, самым младшим из которых был коне-подобный ботаник Николя, кандидат наук и жуткая зануда, а старшим – профессор К*, именитый зоолог, выпустивший не один десяток книг. И мы, безмозглые первокурсники, шарахающиеся, как напуганные коты от одного вида ванночек для препарирования лягушек, тоже были своими. Здесь все подчинялось совсем не тем, привычным, институтским законам. День начинался рано, в шесть, с завтрака в стеклянной, похожей на старинную, пронизанную солнцем оранжерею столовой. Там, внутри расставили длинные дощатые столы-полати и узкие, качающиеся лавки. Заправлял всем Арсен, именно тот армянин, на которого положила глаз хитрая Ленка. Под руководством своей мамы, огромной, толстой, черной, но почему-то очень уютной при своей устрашающей внешности, и с помощью сестры Анели – тоже черной, но нежной и хрупкой, как фарфоровая статуэтка, они творили чудеса кулинарии. Такие, что постепенно я почувствовала, что моя задница неуклонно увеличивается, и скоро начнет мешать при ходьбе, откидывая бедное тулово назад.
После завтрака были занятия в лабораториях. Старинные, видевшие, наверное, Дарвина, наши лаборатории хранили немало тайн. Там происходили не занятия, там творились действа. А самым ненавистным для меня действом было обездвиживание лягушки. Воткнуть между позвонками бедняги, к тому времени еле дрыгавшей лапами и выпучившей от ужаса глаза, толстую иглу, пошебуршить острием в спинном мозге, а потом аккуратно перевести иголку в лягушачью башку, было для меня абсолютно невозможным, и я каждый раз просила помощи у ассистентки. Ленка, лихо расправлявшаяся с лягушками, тоже помогала, но однажды прошипела мне смеющимся шепотком:
– Что ты, как дура, в самом деле. Иди, Серегу попроси. Он каждый раз от лягух увиливает, не знаю, как ему удается. А тут ты его припрешь. Посмотрим, как он вывернется. Джентльмен ведь, итить его.
Я посмотрела в Ленкины глазищи и подумала:
– А ведь правда. И причина вроде будет подойти. Не все ж я ему буду бабочек рисовать. Пусть и он…
Внутри сразу стало холодно, загорелись щеки, руки повлажнели так, что ванночка стала казаться скользкой и норовила выпрыгнуть на деревянный пол. Но я собрала себя в кучу, вытащила из банки самую толстую лягуху и поплелась в дальний угол лаборатории, где Сергей с Надень приклеивали сушеных мух на альбомный лист, встраивая их по ранжиру, при этом очень старательно высунув языки.
– Тебе чего, боль моя?
Сергей смотрел насмешливо, но ласково. Он не пилил сук, на котором сидит, потому что жизнь, она круглая, и кто знает, каких бабочек, или не да бог птичек, блаженный профессор завтра заставит его рисовать в альбоме.
– Помоги лягушку обездвижить, а? Я вот совсем не могу, просто хоть плачь…
Я протянула ему ванночку с воском и лягушку, которая согрелась в моей руке и, покорившись своей участи, почти не дрыгалась.
– А что ты Маринку не попросишь, она же вон, смотри – у стола.
Сережка смотрел зло, он, похоже подозревал, что дело не в помощи. А манипулирования собой он не допускал, взбрыкивая, как козёл на привязи
-Маринка тебе десять лягушек обездвижит разом и не моргнет, что ты ко мне приперлась?
Маринка была наша отличница, целеустремленная, волевая девица. Все, к чему она не прикасалась, выполнялось идеально. Она и Серегу бы обездвижила на раз, не то, что какую-то там лягуху. Особенно перед сессией, на которых необходимо было получать только пятерки.
Я было убралась со своей затеей подальше, но сзади проскрипело, весело и задорно:
«Ну, ну, молодой человек, посмотрим, посмотрим. Покажите-ка нам класс… Мадемуазель, давайте-ка своё сокровище, пока вы его не удавили. А мы начнем».
Старый профессор стоял у стола и улыбался. В руках у него была здоровенная игла на толстой полированной деревянной ручке, и он размахивал ею, как шпагой. У меня сердце провалилось еще ниже, я знала, что полуслепой препод даже на занятиях не сразу попадает в цель и долго шерудит в лягушачей голове… Интересно, лягушки умеют кричать?
– Дай сюда! Еще придешь ко мне с таким, получишь поджопник, как курица дурная.
Сергей выхватил у меня страдалицу и одним точным движением скальпеля отсек ей башку.
Я видела, как он побледнел.
***
Каждую пятницу нас отпускали домой с тем, чтобы в понедельник мы вернулись назад. Мне жутко не хотелось уезжать, можно было и остаться, но я скучала по маме.
– Что-же ты грязная такая-то? Так и вши пойдут и блохи, как у кошки подзаборной. У вас там что, мыться негде?
Мама с силой надраивала мне спину мочалкой, спина горела огнем, но она не унималась уже минут десять. В ванной плыли клубы пара, взбитая пена взлетала и оседала на краю раковины пышными хлопьями. Сказать ей, что в жутком кирпичном строении, служившем нам душевой, где установлены гремящие железные корыта вместо раковин, в которые стекает тонкими струйками пахнущая ржавчиной вода, было всегда полутемно из-за вечно сгоревшей лампочки, а мы, вместо нормального мытья, хохочем и визжим (особенно, когда ребята воют на разные голоса под окнами-бойницами), я боялась. А вдруг не отпустит в понедельник назад.
После ванны мы сидели на кухне и пили чай с деревенским вареньем, которое нам еще исправно поставляла баба Таня, вместе со своими изящными, как произведения искусства пирожками. Я в лицах, взахлеб рассказывала маме о своих похождениях, у меня от задора потели толстые линзы в очках и глотались слова.
Мама слушала внимательно, буквально впитывая все мои истории и даже шевелила губами, как будто повторяла всё за мной.
«Ты совсем влюбилась, Ирк!» – неожиданно заключила она и потерла уголок полных губ наманикюренным пальцем, – «Я так тебе завидую… Вы у меня что-то с ума посходили – и мать и ты… только я…»
Она встала, подошла к плите и снова поставила чайник, громко шмякнув им по чугуну комфорки. Потом снова подошла, присела.
«Представляешь, сегодня какой-то странный тип в трамвае сумку оставил. Такой смешной, на воробья похож. Я за ним выскочила, догнала, сумку отдаю, а он так смотрит на меня, по-птичьи, головой качает. А потом говорит: " Прям поблагодарить то тебя нечем. На! Дочке отдашь. На счастье». И в руку сунул, теплое такое. Глянь»
Она кинула на стол пушистенький, голубой мячик, ворсистый, блестящий. Я взяла и сунула в карман халата. Мне почему-то очень захотелось его взять.
Глава 14. Доктор
Солнце, оказывается, бывает черным… никогда не знала этого раньше, а вот теперь увидела своими глазами. Особенно, если смотреть на него через конверт, в который вложена твоя судьба, сконцентрированная в маленьком слове, написанном толстым карандашом на огрызке тетрадного листка. И оно, это твердое слово, похожее на забор из прямых и острых кольев, там, внутри, освещается черными лучами. И от этих лучей так режет глаза…
Я сидела прямо на земле, среди колючек и держала в руках письмо. Почему я уселась в колючие бодыли, я не помнила. Наверное, мир перевернулся вверх ногами, когда это «НЕТ» проорало из конверта и хлестнуло наотмашь прямо по лицу. Я с трудом удержалась на плоскости этого мира, распластавшись в траве. Я вцепилась в траву руками, иначе бы мир меня скинул. Почему я так приняла отказ? Чего я ждала, когда писала, как идиотка, своё признание Сергею, выворачивая наизнанку душу, впервые так выворачивая? Или не впервые? Рамен… или тогда было не так?
Все это мелькало в моей воспаленной голове, мысли были похожи на мелких навязчивых мух, крутящихся над мясом – бедным моим мозгом, почти взорвавшимся от обиды. В конверте было еще письмо от мамы, она вложила все разом и переслала мне, сюда, в Астрахань. Вся наша группа жила «на помидорах» в Астрахани уже месяц, только Сергей остался в Москве, у него заболела мама. Я и написала ему в Москву. Идиотка!
Я бросила смятый тетрадный листок на обожженную солнцем до лысин землю, сжамкала в комочек и подожгла. Бумага вспыхнула разом и рассыпалась легким пеплом, вместе со страшным словом. Мне было почти все равно, у меня уже снова поселился в душе холодный червяк и лег, удобно развалившись внутри, обвив сердце парой-тройкой скользких витков. Поэтому, почти спокойно я вытащила мамино письмо.
Мамины каллиграфические буковки на плотной красивой бумаге (она писала только на такой) были немного суматошны, но успокаивали. Я, почти не читая, прижала прохладный лист к горевшей щеке, как в детстве, заболев, прижимала её руку, и легла, свернувшись калачиком. Наверное, я уснула, потому, что, когда мир снова возник вокруг меня, садилось солнце, плавясь в раскаленных рыжих астраханских степях. И я уже была другой в этом другом мире.
***
Мама открыла дверь и ахнула, покачнувшись и схватившись за косяк. Зрелище было, похоже, жутким. Гремящий костями скелет, рыжий и всколоченный возник в коридоре и, посмотрев на неё ввалившимися глазами с черными подглазницами, сказал – «Привет, мам». Это чудище отсвечивало в большом зеркале в прихожей, я тоже с удивлением посмотрела на него. А оно на меня…
– Ирк, знаешь, ты б отвлеклась…– мама стояла сзади и смотрела, как я пытаюсь затянуть взлохмаченную после мытья гриву в толстый хвостик, – Ну ведь столько ребят вокруг. Что вот – свет клином сошелся? Ну ведь страшный же, носатый татарин, дурной, чумной. Ржет все время, как ишак. Что ты вцепилась в него, как клещ?
– Мам! – у меня внутри больно резала натянутая струна, но я терпела.
– Мам! Я уже ничего не вцепилась. Все прошло. Я на картошку через две недели рвану с нашими. Не против?
– Рвани. Может найдешь кого… И знаешь, тебе худоба не идет. Ты – страшная!
Я вздрогнула, посмотрела на неё и, неожиданно для себя, обиделась. Красивая моя мама еще больше поправилась последнее время и стала уже грузной. Хотя её ловкость сильной, ладной женщины от этого не пропала, а наоборот, стала еще больше заметна, всё же, ей стало явно тяжелее. Но красота… Как она умудрялась сохранить красоту и изящество, даже аристократизм, несмотря на возраст и полноту? «Наверное, это особый талант», – думала я, с завистью. Я часто завидовала маме. Не знаю, это нормально?
Намотав на голову полотенце, я долго сидела перед зеркалом у себя в комнате и разглядывала свое лицо. Хоть и смазливое, глазастое, но простоватое, носатое. Рыжеватые густые патлы и впалые щеки. Почему уж страшная-то? Вот придумала. А ещё мама…
***
И снова автобус тащил нас по Подмосковью. Тяжелые тучи висли и ложились на мокрые, снулые поля с неубранной картошкой и капустой. Я тупо пёрлась на уборку сельхозпродукции только с одной надеждой и ожиданием. Сергей! Паранойя моя была окончательной и диагноз сомнению не подлежал! Я была не побеждена этой любовью, я была распята! Все мамины слова далеким шелестом слетали с моих оглохших ушей, как октябрьские листья с кленов, я кивала головой, но лезла на острия этой бессмысленной страсти, закусив губы и зажмурив глаза. В автобусе было душно и сыро, даже запотели стекла, тонкие солнечные лучики резали мутный воздух салона и слепили глаза. И так, подслеповатая (носить очки с толстыми стеклами я не хотела, дабы не рушить свою потрясающую красоту), да еще сидящая лицом к солнцу, я не видела почти ничего. Только чья-то худая физиономия напротив мне была хорошо видна. Она представляла собой кучерявый лохматый подсолнух, на который почему-то надели очки.
– Маринк, кто это? Почему не знаю?