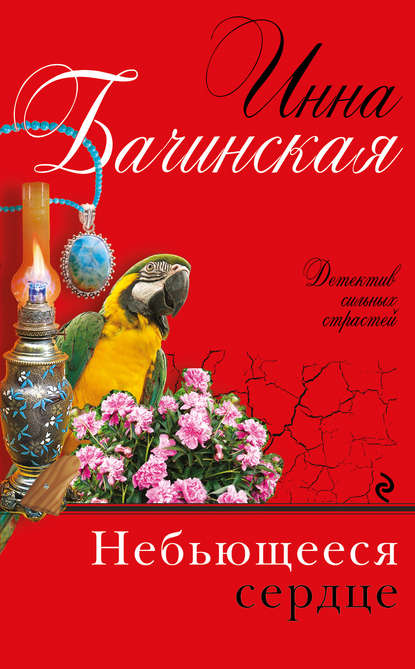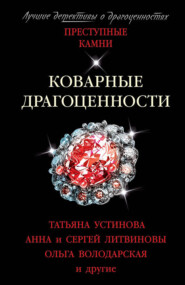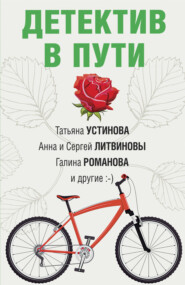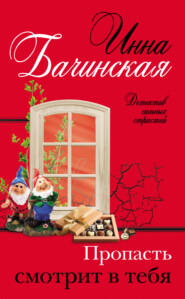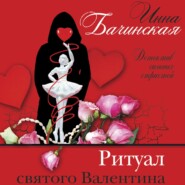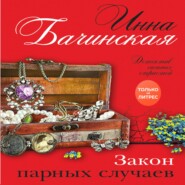По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Небьющееся сердце
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Догорал закат, на землю мягко опускалась ночь. Оля зажигала свечу. Тишина и тьма существовали где-то за пределами огня, и там, в этой темной тишине, не чувствовалось ни движения, ни ветерка. Пахло луговыми травами, мятой, аиром, чабрецом. От реки тянуло свежестью и наползал туман. Иногда кто-то плескал в прибрежной осоке – водяная крыса или щука. Иногда кричал коростель, которому тоже не спалось. Разгоралась, потрескивая, свеча, налетали и вились вокруг ночные бабочки. Появлялись первые, вздрагивающие от ночной прохлады, звезды. Собаки дремали рядом – громадный Цезарь лежал, положив голову на лапы, а Тинка и Дэзи сидели как два маленьких сфинкса.
– Не хочется уезжать от вас, – жаловался Борис, – вот сейчас вернусь домой, а там – пусто, темно, неуютно, всюду пыль… не чувствуется женской руки. Вот так бросить бы все да и переселиться сюда, к вам.
– Очень ты тут нам нужен, – басит Глеб. – Это же деревня, не забывай, а ты и деревня – понятия несовместимые.
– В жизни каждого человека, – назидательно поднимает указательный палец Борис, – наступает время собирать камни и возвращаться к истокам. Отредактирую наконец рассказы отца. Ты, кстати, давно мог бы и сам…
– Ты прав, – говорит Глеб, – свинство с моей стороны. Знаете, Оля, – он смотрит на девушку, – отец, когда ему было около семидесяти, начал писать рассказы, воспоминания из своей богатой практики. Он был хирургом. Некоторые из них даже напечатала местная газета, и читатели благодарили его за надежду, писали о себе, он отвечал. Он тогда уже не оперировал. Отец умер четыре года назад, и мы с Борисом хотим издать его рассказы. Борис у нас будет спонсором.
– Знаете, Оля, – говорит Борис, – надо вам заметить, что все члены нашей семьи – позднецветы. Цветут до глубокой старости. Отец в семьдесят начал литературную карьеру. Бабка, его мать, в шестьдесят, посмотрев впервые «Мост Ватерлоо», который стал ее любовью на всю оставшуюся жизнь, стала страшной англоманкой, взялась за английский и вскоре читала несложные детские книжечки. Меня тоже заставляла… но, увы. И тогда моя родная бабушка сказала родителям, что ничего хорошего из меня в жизни не выйдет, что я балбес, лентяй и бездарь. А Глеб ваш, – добавляет обличающе, – всегда был вундеркиндом и подлизой. Его все любили.
– И ты мне до сих пор завидуешь, – парирует Глеб.
– Завидую, – признается Борис. – Таким уж я уродился завидущим.
И так далее, и тому подобное, до глубокой ночи, до третьих петухов. Оля украдкой рассматривает братьев. Просто удивительно, до чего же они разные. Борис – небольшой, изящный, стремительный, с иссиня-черными волосами – он отбрасывает их резким движением головы, – со смуглой кожей, ласковыми черными глазами-маслинами и обаятельной улыбкой. И манерой при разговоре смотреть собеседнику в глаза. Кто ж устоит? Никто! Неудивительно, что Глеб называет его бабником и многоженцем. А кроме того, профессия обязывает быть интересным, привлекательным и прекрасно одетым. Он должен нравиться своим пациенткам. Оля прекрасно понимает, что Борис просто неспособен любить одну женщину – с такими-то горящими глазами!
А Глеб – никто бы никогда не принял их за братьев – совсем другой. Большой, неторопливый, скупой на слова и жесты, иронично-доброжелательный деревенский философ. Светлые глаза на обветренном лице, русая борода с обильной сединой. Первоклассный хирург, по словам Бориса, зарабатывающий копейки в своей лечебнице. Довольствующийся малым. Не честолюбив и не суетен. Так, по мнению Оли, должен выглядеть человек, постигший смысл жизни. Рассматривает ее, Олю, не в упор, как Борис, а лишь бегло взглядывает при разговоре. Иногда не знает, что сказать, и они подолгу молчат. В отличие от Бориса безразличен к одежде, да и куда тут одеваться? Джинсы, клетчатые рубашки и свитера годятся на все случаи жизни.
У Бориса подкупающая манера брать собеседника в сообщники. Он говорит «мы с Олей», «Оля – моя пациентка», «Правда, Олечка?», «Ты, Глебушка, всего-навсего спас ей жизнь, а я – красоту. Олечка, а что важнее для женщины – жизнь или красота?» и смотрит на нее ласковым, обволакивающим, по-мужски оценивающим взглядом, в котором читается откровенное желание. Оля с трудом переводит взгляд на Глеба. Глеб выжидающе, насмешливо, все понимая – Оля вспыхивает! – смотрит на нее. Оба смотрят на нее и ждут ответа. И она, не придумав ничего другого и не желая никого обидеть, как ребенок отвечающий «Мамупапу» на вопрос: «Кого ты любишь больше – маму или папу?» – говорит:
– Жизнь однозначна, а красота – понятие субъективное.
– Очень сложно, – фыркает Борис, – вы ускользнули от ответа.
– Ничего подобного! Это честный и ясный ответ! – защищает ее Глеб. – Красота – понятие субъективное. То есть я допускаю, что есть красота общепринятая, бесспорная, как красота Моны Лизы, но в жизни часто красивым кажется тот, кто тебе люб.
– Да сколько можно облизывать эту Мону Лизу? Да что же в ней красивого? Ах, загадка! Я помню, какой-то борзописец опубликовал статью под названием «Четырехсотлетняя загадка женской улыбки». Так и представляешь себе улыбающуюся красотку четырехсот лет отроду! Никакой загадки в вашей Моне Лизе нет. Знаете, о чем она улыбается?
– О чем?
– А вот пусть Оля скажет. Ни одна женщина не составляет загадки для другой. Итак, Оля, известно ли вам, почему Мона Лиза так улыбается?
– Известно!
– Я так и знал! Почему?
– Я думаю, она влюблена и улыбается, вспоминая о свидании.
– Браво! Могу добавить: о тайном свидании. Улыбка у нее довольно каверзная и торжествующая, она говорит: «Не знаете и не узнаете, и в гробу я вас всех видала!»
– Трепач!
– Ну вот, Олечка, страдаю за правду, как всегда. За открытость, чистосердечие, наивность. Ну, грешен, каюсь, люблю женщин и вижу их насквозь. Хотя почему каюсь? И не каюсь вовсе. И наш дед любил. Удивительно, что он находил время на мхи. Странно, Глебушка, ты тоже собираешь мхи, а вот женщины тебя не волнуют.
– Кто тебе сказал подобную глупость?
– Сам вижу. Постой-ка, а может, у тебя кто-то есть? И ты скрываешь ее и внутренне улыбаешься, как Джоконда? Признавайся! Какая-нибудь сельская учителка? Оля, – обращается он к девушке, в голосе его звучат заговорщицкие нотки, – вы, как натура чуткая, посмотрите на него внимательно и скажите, влюблен мой старший брат или нет.
Оля, помедлив, заставляет себя взглянуть на Глеба, их глаза встречаются… впервые Глеб не отводит взгляда… наступает пауза… трещит, оплывая, свеча… вьется, ударяясь в стекло, бабочка… двое на острове грез… проходит долгая вечность («долгая вечность» – смешно!), прежде чем Оля говорит тихо:
– Кажется, влюблен.
– Так я и знал! – бодро говорит Борис, но что-то переменилось в его тоне, словно угасло, запал исчез. – Меня не проведешь.
Глава 10
Глеб и Оля (окончание)
Вечерело. Небо было малиновым – к ветру и перемене погоды. Они только что закончили ужинать. Глеб делал вид, что читает. Оля убирала со стола. Глеб было сунулся помогать, но Оля решительно отказалась. Дэзи, постукивая когтями по полу, сопровождала Олю в кухню и обратно. Мирная домашняя сцена. Догорающий летний день, деревенский покой, дом, утопающий в зелени, долгие неспешные трапезы на веранде и разговоры обо всем на свете. В тот вечер, однако, оба молчали. Оля вскользь сказала, что она загостилась и ей уже пора. Чувствует она себя хорошо и… ну, одним словом, ей пора. Глеб пробормотал:
– Куда вам спешить… вам еще окрепнуть не мешает, и головные боли могут вернуться.
Жалкий лепет! Настроение у него было подавленным. Он чувствовал свою беспомощность, неумение сказать… Не находит слов? Не уверен? Боится показаться смешным, нелепым и навязчивым стариком? Как бы там ни было, ничего кроме: «Ну, куда вам спешить? Оставайтесь! Вы еще недостаточно окрепли. И собаки вас полюбили», – он не придумал. Идиот! «Собаки вас полюбили!» Убедительная причина, чтобы остаться. Ему хотелось взять ее за руку и сказать: «Не уходите! Я не хочу, останьтесь!» Но он не смел. Что он мог ей дать? Тысячу раз прав Борис. Неудачник! Жалкий старый неудачник, зарывший талант в землю, способный только терять… Все ушло, как песок сквозь пальцы… А у нее своя жизнь, о которой он ничего не знает. Она рассказала ему далеко не все. Она ничего ему не рассказала! Он прекрасно помнит, что лежало в ее маленькой кожаной сумочке с длинным ремешком, которую потом нашел Цезарь… Глеб подозревал, что авария произошла не случайно, и гнал от себя дурные мысли. Она ведь даже не назвала своего настоящего имени. Оля! В паспорте совсем другое. Пришла ниоткуда и уйдет в никуда. Он стал неохотно выходить из дома – ему казалось, что он уйдет, а она исчезнет, как и не было.
Она стирает ему рубашки, гладит, тщательно расправляя воротничок. Глупец, он придает этому какое-то чуть ли не сакральное значение! Видит за обычным человеческим желанием отблагодарить некий особый смысл…
Каждый вечер они подолгу, до ночи, до звезд, сидят на веранде, разговаривают или молчат. Она штопает его свитер, старательно и неумело, уже который день, или вернее вечер, несмотря на его протесты. А ему хочется сказать… Казалось бы чего проще! Взять и сказать: «Оля, я…»
Но он молчал, ругая себя за трусость. Трус и неудачник! Дед всегда говорил – главное ввязаться, а там посмотрим! А он даже ввязаться не способен, заранее принимая поражение. Видимо, кураж и чувство авантюризма, гуляющие в их роду из одного поколения в другое, достаются не всем понемногу, а лишь одному. В их поколении – это Борис. Боб. Глеба восхищало и забавляло нахальство младшего брата: вот кто не боится получить щелчок по носу! И получает, получает же! Ну и что? «Корона с головы не упала, – только и скажет, почесав в затылке, и снова вперед. – Волков бояться, в лес не ходить!»
– Не хочется уезжать от вас, – жаловался Борис, – вот сейчас вернусь домой, а там – пусто, темно, неуютно, всюду пыль… не чувствуется женской руки. Вот так бросить бы все да и переселиться сюда, к вам.
– Очень ты тут нам нужен, – басит Глеб. – Это же деревня, не забывай, а ты и деревня – понятия несовместимые.
– В жизни каждого человека, – назидательно поднимает указательный палец Борис, – наступает время собирать камни и возвращаться к истокам. Отредактирую наконец рассказы отца. Ты, кстати, давно мог бы и сам…
– Ты прав, – говорит Глеб, – свинство с моей стороны. Знаете, Оля, – он смотрит на девушку, – отец, когда ему было около семидесяти, начал писать рассказы, воспоминания из своей богатой практики. Он был хирургом. Некоторые из них даже напечатала местная газета, и читатели благодарили его за надежду, писали о себе, он отвечал. Он тогда уже не оперировал. Отец умер четыре года назад, и мы с Борисом хотим издать его рассказы. Борис у нас будет спонсором.
– Знаете, Оля, – говорит Борис, – надо вам заметить, что все члены нашей семьи – позднецветы. Цветут до глубокой старости. Отец в семьдесят начал литературную карьеру. Бабка, его мать, в шестьдесят, посмотрев впервые «Мост Ватерлоо», который стал ее любовью на всю оставшуюся жизнь, стала страшной англоманкой, взялась за английский и вскоре читала несложные детские книжечки. Меня тоже заставляла… но, увы. И тогда моя родная бабушка сказала родителям, что ничего хорошего из меня в жизни не выйдет, что я балбес, лентяй и бездарь. А Глеб ваш, – добавляет обличающе, – всегда был вундеркиндом и подлизой. Его все любили.
– И ты мне до сих пор завидуешь, – парирует Глеб.
– Завидую, – признается Борис. – Таким уж я уродился завидущим.
И так далее, и тому подобное, до глубокой ночи, до третьих петухов. Оля украдкой рассматривает братьев. Просто удивительно, до чего же они разные. Борис – небольшой, изящный, стремительный, с иссиня-черными волосами – он отбрасывает их резким движением головы, – со смуглой кожей, ласковыми черными глазами-маслинами и обаятельной улыбкой. И манерой при разговоре смотреть собеседнику в глаза. Кто ж устоит? Никто! Неудивительно, что Глеб называет его бабником и многоженцем. А кроме того, профессия обязывает быть интересным, привлекательным и прекрасно одетым. Он должен нравиться своим пациенткам. Оля прекрасно понимает, что Борис просто неспособен любить одну женщину – с такими-то горящими глазами!
А Глеб – никто бы никогда не принял их за братьев – совсем другой. Большой, неторопливый, скупой на слова и жесты, иронично-доброжелательный деревенский философ. Светлые глаза на обветренном лице, русая борода с обильной сединой. Первоклассный хирург, по словам Бориса, зарабатывающий копейки в своей лечебнице. Довольствующийся малым. Не честолюбив и не суетен. Так, по мнению Оли, должен выглядеть человек, постигший смысл жизни. Рассматривает ее, Олю, не в упор, как Борис, а лишь бегло взглядывает при разговоре. Иногда не знает, что сказать, и они подолгу молчат. В отличие от Бориса безразличен к одежде, да и куда тут одеваться? Джинсы, клетчатые рубашки и свитера годятся на все случаи жизни.
У Бориса подкупающая манера брать собеседника в сообщники. Он говорит «мы с Олей», «Оля – моя пациентка», «Правда, Олечка?», «Ты, Глебушка, всего-навсего спас ей жизнь, а я – красоту. Олечка, а что важнее для женщины – жизнь или красота?» и смотрит на нее ласковым, обволакивающим, по-мужски оценивающим взглядом, в котором читается откровенное желание. Оля с трудом переводит взгляд на Глеба. Глеб выжидающе, насмешливо, все понимая – Оля вспыхивает! – смотрит на нее. Оба смотрят на нее и ждут ответа. И она, не придумав ничего другого и не желая никого обидеть, как ребенок отвечающий «Мамупапу» на вопрос: «Кого ты любишь больше – маму или папу?» – говорит:
– Жизнь однозначна, а красота – понятие субъективное.
– Очень сложно, – фыркает Борис, – вы ускользнули от ответа.
– Ничего подобного! Это честный и ясный ответ! – защищает ее Глеб. – Красота – понятие субъективное. То есть я допускаю, что есть красота общепринятая, бесспорная, как красота Моны Лизы, но в жизни часто красивым кажется тот, кто тебе люб.
– Да сколько можно облизывать эту Мону Лизу? Да что же в ней красивого? Ах, загадка! Я помню, какой-то борзописец опубликовал статью под названием «Четырехсотлетняя загадка женской улыбки». Так и представляешь себе улыбающуюся красотку четырехсот лет отроду! Никакой загадки в вашей Моне Лизе нет. Знаете, о чем она улыбается?
– О чем?
– А вот пусть Оля скажет. Ни одна женщина не составляет загадки для другой. Итак, Оля, известно ли вам, почему Мона Лиза так улыбается?
– Известно!
– Я так и знал! Почему?
– Я думаю, она влюблена и улыбается, вспоминая о свидании.
– Браво! Могу добавить: о тайном свидании. Улыбка у нее довольно каверзная и торжествующая, она говорит: «Не знаете и не узнаете, и в гробу я вас всех видала!»
– Трепач!
– Ну вот, Олечка, страдаю за правду, как всегда. За открытость, чистосердечие, наивность. Ну, грешен, каюсь, люблю женщин и вижу их насквозь. Хотя почему каюсь? И не каюсь вовсе. И наш дед любил. Удивительно, что он находил время на мхи. Странно, Глебушка, ты тоже собираешь мхи, а вот женщины тебя не волнуют.
– Кто тебе сказал подобную глупость?
– Сам вижу. Постой-ка, а может, у тебя кто-то есть? И ты скрываешь ее и внутренне улыбаешься, как Джоконда? Признавайся! Какая-нибудь сельская учителка? Оля, – обращается он к девушке, в голосе его звучат заговорщицкие нотки, – вы, как натура чуткая, посмотрите на него внимательно и скажите, влюблен мой старший брат или нет.
Оля, помедлив, заставляет себя взглянуть на Глеба, их глаза встречаются… впервые Глеб не отводит взгляда… наступает пауза… трещит, оплывая, свеча… вьется, ударяясь в стекло, бабочка… двое на острове грез… проходит долгая вечность («долгая вечность» – смешно!), прежде чем Оля говорит тихо:
– Кажется, влюблен.
– Так я и знал! – бодро говорит Борис, но что-то переменилось в его тоне, словно угасло, запал исчез. – Меня не проведешь.
Глава 10
Глеб и Оля (окончание)
Вечерело. Небо было малиновым – к ветру и перемене погоды. Они только что закончили ужинать. Глеб делал вид, что читает. Оля убирала со стола. Глеб было сунулся помогать, но Оля решительно отказалась. Дэзи, постукивая когтями по полу, сопровождала Олю в кухню и обратно. Мирная домашняя сцена. Догорающий летний день, деревенский покой, дом, утопающий в зелени, долгие неспешные трапезы на веранде и разговоры обо всем на свете. В тот вечер, однако, оба молчали. Оля вскользь сказала, что она загостилась и ей уже пора. Чувствует она себя хорошо и… ну, одним словом, ей пора. Глеб пробормотал:
– Куда вам спешить… вам еще окрепнуть не мешает, и головные боли могут вернуться.
Жалкий лепет! Настроение у него было подавленным. Он чувствовал свою беспомощность, неумение сказать… Не находит слов? Не уверен? Боится показаться смешным, нелепым и навязчивым стариком? Как бы там ни было, ничего кроме: «Ну, куда вам спешить? Оставайтесь! Вы еще недостаточно окрепли. И собаки вас полюбили», – он не придумал. Идиот! «Собаки вас полюбили!» Убедительная причина, чтобы остаться. Ему хотелось взять ее за руку и сказать: «Не уходите! Я не хочу, останьтесь!» Но он не смел. Что он мог ей дать? Тысячу раз прав Борис. Неудачник! Жалкий старый неудачник, зарывший талант в землю, способный только терять… Все ушло, как песок сквозь пальцы… А у нее своя жизнь, о которой он ничего не знает. Она рассказала ему далеко не все. Она ничего ему не рассказала! Он прекрасно помнит, что лежало в ее маленькой кожаной сумочке с длинным ремешком, которую потом нашел Цезарь… Глеб подозревал, что авария произошла не случайно, и гнал от себя дурные мысли. Она ведь даже не назвала своего настоящего имени. Оля! В паспорте совсем другое. Пришла ниоткуда и уйдет в никуда. Он стал неохотно выходить из дома – ему казалось, что он уйдет, а она исчезнет, как и не было.
Она стирает ему рубашки, гладит, тщательно расправляя воротничок. Глупец, он придает этому какое-то чуть ли не сакральное значение! Видит за обычным человеческим желанием отблагодарить некий особый смысл…
Каждый вечер они подолгу, до ночи, до звезд, сидят на веранде, разговаривают или молчат. Она штопает его свитер, старательно и неумело, уже который день, или вернее вечер, несмотря на его протесты. А ему хочется сказать… Казалось бы чего проще! Взять и сказать: «Оля, я…»
Но он молчал, ругая себя за трусость. Трус и неудачник! Дед всегда говорил – главное ввязаться, а там посмотрим! А он даже ввязаться не способен, заранее принимая поражение. Видимо, кураж и чувство авантюризма, гуляющие в их роду из одного поколения в другое, достаются не всем понемногу, а лишь одному. В их поколении – это Борис. Боб. Глеба восхищало и забавляло нахальство младшего брата: вот кто не боится получить щелчок по носу! И получает, получает же! Ну и что? «Корона с головы не упала, – только и скажет, почесав в затылке, и снова вперед. – Волков бояться, в лес не ходить!»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: