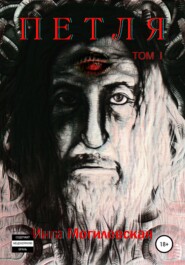По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петля. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петля. Том 2
Инга Александровна Могилевская
На земле, пропитанной кровью вековых герилий, на земле растоптанных судеб, на земле оживших мифов появляется он – несущий свободу. Но кто он на самом деле? Посланник ли небес, сулящий спасение, или выходец из преисподней, ведущий на смерть? Или просто человек, рождённый во лжи – слепец, ставший оружием в чьих-то корыстных руках?
Содержит нецензурную брань.
Инга Могилевская
Петля. Том 2
Част 1
I
– Где ребенок, Рауль?! – индеец набрасывается на него прямо с порога, – Где он?!
– Хакобо…Тито… – выпученные глазенки прыгают по лицам ворвавшихся к нему в дом людей. Чего в них больше – страха или безумия? Безумия – да! Это лицо ненормального: сморщенное, подергивающееся нервным тиком, сминающееся в непроизвольных гримасах – жутких и отвратительных обезьяньих корчах.
– Что ты с ним сделал?! Где он?! –надрываясь вопит профессор.
– Я говорил тебе, не лезть не в свое дело! Не знаю я никакого ребенка! – и снова эта рожа комкается рытвинами складок.
Хакобо хватает жалкого дребезжащего человечишку за грудки, вздергивает:
– Я пришел забрать мальчика. Говори, где ты его прячешь, не то я…!
– Нужно подвал проверить, – перебивает Тито, и сдвигает в сторону ковер, прикрывающий люк в полу, – Черт… Тут замок.
– Рауль – ключи, – шепчет индеец.
– Черта-с два я вам дам ключи, – глазки снова запрыгали еще неистовей, губы судорожно изогнулись, словно два насаженных на крючки червя, – Вы… вы не понимаете… Вы думаете, это ребенок… Никакой это не ребенок! Это демон! Это сам Сатана! И раньше был таким, но сейчас… Будто с цепи сорвался, – нездоровый нервно – дрожащий от злобы смешок, – Сидит на цепи, а с цепи сорвался… Вы этого не понимаете… Нет… Будь он человеком, он давно бы сдох! Но он не человек – нет! Дьявольское отродье – вот он кто! А его голос… Я сказал ему – еще слово, и я язык отрежу! Так он глазами начал. Дьявол… вы не видели его глаза! Они у него как синие пиявки – он ими души высасывает… Я знаю… Уж я-то знаю! Чувствовал, как он это делает… Чувствовал, как он тянет из меня душу… своими ледяными глазами… Словно кишки из пуза… И тогда я взял нож и… Я хотел… Я должен был их выколоть…
– Господи… – Тито хватается за сердце. Хакобо хватается за револьвер.
– Я сейчас тебе сам в глаз выстрелю, если не отдашь ключи, – цедит он сквозь зубы, приставляя дуло к глазнице Рауля.
– Вы… вы просто не понимаете…
– Считаю до трех! Раз…
– Второй… второй ящик в шкафу… Но я предупреждаю! Не лезьте в подвал, не выпускайте его! Он не человек!
Тито уже бросается туда, выдвигает, роется в беспорядочно наваленном хламе, пытаясь выудить ключ. Хакобо тем временем снимает со стены веревку, быстро и крепко опутывает ее вокруг шеи своего полоумного пленника.
– Нашел! – в руках профессора блестит связка с двумя ключами, и он бежит назад к люку, трясущейся рукой с трудом пропихивает замысловатые зубцы в скважину, лязгает, скрежещет ими, пока не раздается победоносный щелчок – и стремглав вниз, по лестнице. Индеец спешит за ним, волоча за конец веревки запнувшегося и упирающегося Рауля.
– Только не туда! Не бросайте меня к нему… Умоляю! – кряхтит безумец, но индеец игнорирует его жалкие стенания.
– Господи… нет! Боже мой! – снова раздается из подвала отчаянный и сдавленный возглас Тито. Хакобо силой вталкивает своего пленника в отверстие люка, слышит грузный шлепок его упавшего на пол тела и гулкие постанывания, не обращая внимания на лестницу, сам спрыгивает вниз.
В тусклом, едва пробивающемся с открытого люка свете он кое-как умудряется разглядеть спину Тито. Тот стоит в немом оцепенении, уставившись на лежащий в метре от него какой-то маленький, слабо бледнеющий во мраке комочек. Замер, как вкопанный, не решаясь ни подойти ближе, ни даже вздохнуть. Что же его так напугало? Проморгавшись, Хакобо присматривается к этому непонятному светлому холмику…
– Поздно… Слишком поздно, – думает он, чувствуя, как взрывается от прилива крови сердце, как внезапно и непроизвольно начинает дрожать тело. И все равно продолжает всматриваться, и все равно подходит ближе, чтобы убедится – ему не мерещится…
А ведь он не хотел сюда ехать. Ей богу, не хотел – просто поддался на уговоры Тито, на все эти его призывы и упреки, словно сделав одолжение: – Ладно, ладно, поехали вместе к Раулю, посмотрим, что там с эти малолетним гринго, если тебе от этого полегчает…. Так он ответил? – Да, так он ответил, нагоняя скачущую во всю прыть клячу профессора. И до этого проклятого момента даже толком не представлял, зачем он это сделал, ради чего? Мог просто остаться дома, со своим диковатым, нерадивым сыном, и мучительными, но светлыми воспоминаниями о покойной жене. Мог никуда не ехать. И ему было бы плевать на все остальное. Но нет. Ведь, нет! Вот он – здесь! И то, что раскрывается перед его взором в беспробудном, стылом мраке этого подвала, за один краткий миг крушит фундамент его мира, его веру в правильность, его априори. Это ужас – даже прежде, чем мозг успевает расшифровать отпечатанный на сетчатке глаза образ – его охватывает ужас… Ужас, что сминает рассудок в своем безжалостном стальном кулаке, а после, рвет его на части, как никчемную ветошь, ужас, что, проникнув под кожу, словно инфекция расползается и распадается внутри на миллиарды колких, режущих крупиц, ставя дыбом каждый волосок на теле, ужас, от которого хочется вопить, и хочется бежать прочь, а вместо этого не остается ничего другого, кроме как стоять неподвижно и смотреть прямо ему в лицо. Ужас невозможного, немыслимого, невыносимого, неприемлемого… Но реального? Произошедшего? – Ужас уступает место ярости.
– Ты что с ним сделал!? – орет Хакобо не своим голосом.
– Он не человек! Не ребенок! Он – Сатана! Слышишь? Сатана!
Он не слышит, он хватает конец обвитой вокруг шеи безумца веревки и тянет за него, тянет – со всей силы, со всей ярости, от всего отчаяния. Кровь пульсирует в голове, заливает глаза, закладывает уши. Он больше ничего не слышит: ни надрывные предсмертные хрипы Рауля, ни хруст его шейных позвонков, ни собственное звериное рычание… Приходит в себя только от тихого леденящего шепота Тито:
– Хок… мальчик еще жив…
Перешагнув через труп задушенного, он подлетает к этому… к этому… Как он может быть еще жив?! Этот наполовину зарытый в грязь крошечный, сжавшийся в позе зародыша скелетик, обтянутый серовато-бурой от сплошных синяков и кровоподтеков кожей. И то не везде. На спине, как будто и вовсе ее нет – одна сплошная рана – плотная скорлупа заскорузлой крови и гноя. Собачья цепь вокруг тонкой шейки, туго стянутые грубой веревкой стебельки рук… Расковывает, развязывает, растирает. Такие холодные! А его лицо? Откидывает слипшиеся от грязи и крови волосы – даже под этой коркой замечет их странное лишь слегка поблескивающее серебром бесцветие. Серое мертвое личико ребенка: впалые щеки, острые скулы, огромная нарывающая ссадина от левого виска и до синеватых чуть приоткрытых губ: сухих, искусанных и потрескавшихся… Жирная черная муха проползает по бесчувственной коже остренького подбородка и присасывается к разбухшей в уголке рта язве… – Пошла прочь! – и глаза… Господи! Глаза, завязаны грязной черной тряпкой… Зачем?! Глаза-то зачем?! Тянется, чтобы потрогать, развязать – по ладони пробегает едва ощутимый ветерок его дыхания.
– Хакобо, подожди. Не снимай повязку. Давай не здесь, – останавливает его Тито.
– Да… – скинув с себя пончо, он осторожно укутывает в него это маленькое серое существо, поднимает на руки. Какой же легкий… хрупкий! Страшно шаг ступить – словно он держит фигурку из пепла. Страшно дышать на него – словно любой неосторожные вздох способен унести прочь душу так отважно и отчаянно хватающуюся за непригодное для жизни тельце.
– Ладно. Надо уходить, – еле слышно проговаривает он.
– Ступай. Я сейчас, разберусь с трупом и догоню, так же сдавлено и тихо отзывается Тито.
Они выехали из деревни еще до рассвета. К счастью, никто им по дороге не встретился, никто не видел. Тело задушенного мерзавца Тито подвесил к потолку в подвале, уложив под ним опрокинутый навзничь табурет. Когда его обнаружат, решат, что самоубийство. Скорбеть по нему особо никто не будет. У этого психа не осталось ни семьи, ни родственников. Разве что их бывшие сотоварищи… Нет, эти уж точно не будут переживать по поводу его смерти! После того случая год назад, Рауль, видно посчитав, что вынесенного из поместья добра ему недостаточно, заделался процентщиком и обобрал всех своих не блиставших умом односельчан до нитки, да еще в долги вогнал. Так что, они, наконец, вздохнут спокойно. Здесь все гладко. Не гладко на сердце. Гадко. Очень гадко…
Хакобо едва находит в себе силы взглянуть на запрокинутую голову мальчика, покоящуюся на его напряженной, крепко вцепившейся в поводья руке. В свете зарождающейся зари замечает, как слегка подрагивает натянутая жилка на тоненькой истертой цепью шее и, кажется, немного шевельнулись губы. Пончо, в которое он укутал несчастного, уже все насквозь промокло – пытаясь устроить искалеченное дитя поудобнее, он нечаянно задел подсохшие струпья на его костлявой спине, и те снова начали сочиться сукровицей, кровью и гноем. Теперь вот липнет к рукам. И запах… Запах мертвечины. От него еще тревожнее на душе. Страшно. Надо бы промыть раны, и обмотать чем-то чистым. Только пока нечем. Придется обождать до дому. Лишь бы маленький дотерпел… Ладно… Ладно… Это еще полбеды. Повязка на глазах – вот что пугает его больше всего… Что она скрывает? Может, под ней уже давно нет глаз, а лишь две черные заглатывающие дыры? Если этот скотина сделал, что хотел, если он выколол их… Не думай об этом! Нет смысла уже об этом думать! Но, если у мальчонки, и правда, уже нет глаз, как же тогда? Что делать? – Все возможное. В любом случае, СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ СПАСТИ.
– Останови лошадь, – говорит он Тито, – нужно посмотреть, что с малышом.
– Да… Только давай чуть левее. Там, кажется, река.
Действительно, где-то неподалеку – журчит, словно зазывая. Они сворачивают в направлении этого звука. Не река – ручеек: поблескивает призрачной нитью меж гладких камней. Тито первый спрыгивает с лошади, подходит к Хакобо, осторожно принимает в руки укутанного мальчика и, не проронив ни слова, поспешно направляется с ним к воде. Опускает подле себя на покрытые мхом камни, наклоняется, разворачивает, вытягивает его ножки, ручки. Начинает осторожно ощупывать.
– Переломов, похоже, нет…, – поясняет он подошедшему – индейцу, потом положив обе свои огромные ладони на впалый животик, вдавливает пальцами куда-то вверх, под торчащие ребра.
– Ты что делаешь?
– Проверяю… Все эти побои, увечья… Но главное, чтобы у него органы были целы.
– И как? Целы?
Тито лишь неопределенно подергивает плечом.
– Но, если бы у него был разрыв, он бы не выжил, так? – настаивает индеец, – Раз он выжил, значит все в порядке, так?
– Порядком тут и не пахнет, – не отрываясь от своего занятия, чуть слышно бурчит профессор. И через минуту, издав натужный вздох, – Деформация есть, но пока не чувствую каких-то серьезных внутренних повреждений. Впрочем, я не уверен. Если малыш очнется, там и станет ясно. Вот только… – боязливо проводит рукой по серому личику, – Не знаю, сколько дней этот изверг морил его голодом, но пить не давал уже как минимум дня два. У мальчика полное обезвоживание, – и, набрав в стиснутые ладони воды, подносит их к приоткрытым губам ребенка,
– Приподними его голову…
Инга Александровна Могилевская
На земле, пропитанной кровью вековых герилий, на земле растоптанных судеб, на земле оживших мифов появляется он – несущий свободу. Но кто он на самом деле? Посланник ли небес, сулящий спасение, или выходец из преисподней, ведущий на смерть? Или просто человек, рождённый во лжи – слепец, ставший оружием в чьих-то корыстных руках?
Содержит нецензурную брань.
Инга Могилевская
Петля. Том 2
Част 1
I
– Где ребенок, Рауль?! – индеец набрасывается на него прямо с порога, – Где он?!
– Хакобо…Тито… – выпученные глазенки прыгают по лицам ворвавшихся к нему в дом людей. Чего в них больше – страха или безумия? Безумия – да! Это лицо ненормального: сморщенное, подергивающееся нервным тиком, сминающееся в непроизвольных гримасах – жутких и отвратительных обезьяньих корчах.
– Что ты с ним сделал?! Где он?! –надрываясь вопит профессор.
– Я говорил тебе, не лезть не в свое дело! Не знаю я никакого ребенка! – и снова эта рожа комкается рытвинами складок.
Хакобо хватает жалкого дребезжащего человечишку за грудки, вздергивает:
– Я пришел забрать мальчика. Говори, где ты его прячешь, не то я…!
– Нужно подвал проверить, – перебивает Тито, и сдвигает в сторону ковер, прикрывающий люк в полу, – Черт… Тут замок.
– Рауль – ключи, – шепчет индеец.
– Черта-с два я вам дам ключи, – глазки снова запрыгали еще неистовей, губы судорожно изогнулись, словно два насаженных на крючки червя, – Вы… вы не понимаете… Вы думаете, это ребенок… Никакой это не ребенок! Это демон! Это сам Сатана! И раньше был таким, но сейчас… Будто с цепи сорвался, – нездоровый нервно – дрожащий от злобы смешок, – Сидит на цепи, а с цепи сорвался… Вы этого не понимаете… Нет… Будь он человеком, он давно бы сдох! Но он не человек – нет! Дьявольское отродье – вот он кто! А его голос… Я сказал ему – еще слово, и я язык отрежу! Так он глазами начал. Дьявол… вы не видели его глаза! Они у него как синие пиявки – он ими души высасывает… Я знаю… Уж я-то знаю! Чувствовал, как он это делает… Чувствовал, как он тянет из меня душу… своими ледяными глазами… Словно кишки из пуза… И тогда я взял нож и… Я хотел… Я должен был их выколоть…
– Господи… – Тито хватается за сердце. Хакобо хватается за револьвер.
– Я сейчас тебе сам в глаз выстрелю, если не отдашь ключи, – цедит он сквозь зубы, приставляя дуло к глазнице Рауля.
– Вы… вы просто не понимаете…
– Считаю до трех! Раз…
– Второй… второй ящик в шкафу… Но я предупреждаю! Не лезьте в подвал, не выпускайте его! Он не человек!
Тито уже бросается туда, выдвигает, роется в беспорядочно наваленном хламе, пытаясь выудить ключ. Хакобо тем временем снимает со стены веревку, быстро и крепко опутывает ее вокруг шеи своего полоумного пленника.
– Нашел! – в руках профессора блестит связка с двумя ключами, и он бежит назад к люку, трясущейся рукой с трудом пропихивает замысловатые зубцы в скважину, лязгает, скрежещет ими, пока не раздается победоносный щелчок – и стремглав вниз, по лестнице. Индеец спешит за ним, волоча за конец веревки запнувшегося и упирающегося Рауля.
– Только не туда! Не бросайте меня к нему… Умоляю! – кряхтит безумец, но индеец игнорирует его жалкие стенания.
– Господи… нет! Боже мой! – снова раздается из подвала отчаянный и сдавленный возглас Тито. Хакобо силой вталкивает своего пленника в отверстие люка, слышит грузный шлепок его упавшего на пол тела и гулкие постанывания, не обращая внимания на лестницу, сам спрыгивает вниз.
В тусклом, едва пробивающемся с открытого люка свете он кое-как умудряется разглядеть спину Тито. Тот стоит в немом оцепенении, уставившись на лежащий в метре от него какой-то маленький, слабо бледнеющий во мраке комочек. Замер, как вкопанный, не решаясь ни подойти ближе, ни даже вздохнуть. Что же его так напугало? Проморгавшись, Хакобо присматривается к этому непонятному светлому холмику…
– Поздно… Слишком поздно, – думает он, чувствуя, как взрывается от прилива крови сердце, как внезапно и непроизвольно начинает дрожать тело. И все равно продолжает всматриваться, и все равно подходит ближе, чтобы убедится – ему не мерещится…
А ведь он не хотел сюда ехать. Ей богу, не хотел – просто поддался на уговоры Тито, на все эти его призывы и упреки, словно сделав одолжение: – Ладно, ладно, поехали вместе к Раулю, посмотрим, что там с эти малолетним гринго, если тебе от этого полегчает…. Так он ответил? – Да, так он ответил, нагоняя скачущую во всю прыть клячу профессора. И до этого проклятого момента даже толком не представлял, зачем он это сделал, ради чего? Мог просто остаться дома, со своим диковатым, нерадивым сыном, и мучительными, но светлыми воспоминаниями о покойной жене. Мог никуда не ехать. И ему было бы плевать на все остальное. Но нет. Ведь, нет! Вот он – здесь! И то, что раскрывается перед его взором в беспробудном, стылом мраке этого подвала, за один краткий миг крушит фундамент его мира, его веру в правильность, его априори. Это ужас – даже прежде, чем мозг успевает расшифровать отпечатанный на сетчатке глаза образ – его охватывает ужас… Ужас, что сминает рассудок в своем безжалостном стальном кулаке, а после, рвет его на части, как никчемную ветошь, ужас, что, проникнув под кожу, словно инфекция расползается и распадается внутри на миллиарды колких, режущих крупиц, ставя дыбом каждый волосок на теле, ужас, от которого хочется вопить, и хочется бежать прочь, а вместо этого не остается ничего другого, кроме как стоять неподвижно и смотреть прямо ему в лицо. Ужас невозможного, немыслимого, невыносимого, неприемлемого… Но реального? Произошедшего? – Ужас уступает место ярости.
– Ты что с ним сделал!? – орет Хакобо не своим голосом.
– Он не человек! Не ребенок! Он – Сатана! Слышишь? Сатана!
Он не слышит, он хватает конец обвитой вокруг шеи безумца веревки и тянет за него, тянет – со всей силы, со всей ярости, от всего отчаяния. Кровь пульсирует в голове, заливает глаза, закладывает уши. Он больше ничего не слышит: ни надрывные предсмертные хрипы Рауля, ни хруст его шейных позвонков, ни собственное звериное рычание… Приходит в себя только от тихого леденящего шепота Тито:
– Хок… мальчик еще жив…
Перешагнув через труп задушенного, он подлетает к этому… к этому… Как он может быть еще жив?! Этот наполовину зарытый в грязь крошечный, сжавшийся в позе зародыша скелетик, обтянутый серовато-бурой от сплошных синяков и кровоподтеков кожей. И то не везде. На спине, как будто и вовсе ее нет – одна сплошная рана – плотная скорлупа заскорузлой крови и гноя. Собачья цепь вокруг тонкой шейки, туго стянутые грубой веревкой стебельки рук… Расковывает, развязывает, растирает. Такие холодные! А его лицо? Откидывает слипшиеся от грязи и крови волосы – даже под этой коркой замечет их странное лишь слегка поблескивающее серебром бесцветие. Серое мертвое личико ребенка: впалые щеки, острые скулы, огромная нарывающая ссадина от левого виска и до синеватых чуть приоткрытых губ: сухих, искусанных и потрескавшихся… Жирная черная муха проползает по бесчувственной коже остренького подбородка и присасывается к разбухшей в уголке рта язве… – Пошла прочь! – и глаза… Господи! Глаза, завязаны грязной черной тряпкой… Зачем?! Глаза-то зачем?! Тянется, чтобы потрогать, развязать – по ладони пробегает едва ощутимый ветерок его дыхания.
– Хакобо, подожди. Не снимай повязку. Давай не здесь, – останавливает его Тито.
– Да… – скинув с себя пончо, он осторожно укутывает в него это маленькое серое существо, поднимает на руки. Какой же легкий… хрупкий! Страшно шаг ступить – словно он держит фигурку из пепла. Страшно дышать на него – словно любой неосторожные вздох способен унести прочь душу так отважно и отчаянно хватающуюся за непригодное для жизни тельце.
– Ладно. Надо уходить, – еле слышно проговаривает он.
– Ступай. Я сейчас, разберусь с трупом и догоню, так же сдавлено и тихо отзывается Тито.
Они выехали из деревни еще до рассвета. К счастью, никто им по дороге не встретился, никто не видел. Тело задушенного мерзавца Тито подвесил к потолку в подвале, уложив под ним опрокинутый навзничь табурет. Когда его обнаружат, решат, что самоубийство. Скорбеть по нему особо никто не будет. У этого психа не осталось ни семьи, ни родственников. Разве что их бывшие сотоварищи… Нет, эти уж точно не будут переживать по поводу его смерти! После того случая год назад, Рауль, видно посчитав, что вынесенного из поместья добра ему недостаточно, заделался процентщиком и обобрал всех своих не блиставших умом односельчан до нитки, да еще в долги вогнал. Так что, они, наконец, вздохнут спокойно. Здесь все гладко. Не гладко на сердце. Гадко. Очень гадко…
Хакобо едва находит в себе силы взглянуть на запрокинутую голову мальчика, покоящуюся на его напряженной, крепко вцепившейся в поводья руке. В свете зарождающейся зари замечает, как слегка подрагивает натянутая жилка на тоненькой истертой цепью шее и, кажется, немного шевельнулись губы. Пончо, в которое он укутал несчастного, уже все насквозь промокло – пытаясь устроить искалеченное дитя поудобнее, он нечаянно задел подсохшие струпья на его костлявой спине, и те снова начали сочиться сукровицей, кровью и гноем. Теперь вот липнет к рукам. И запах… Запах мертвечины. От него еще тревожнее на душе. Страшно. Надо бы промыть раны, и обмотать чем-то чистым. Только пока нечем. Придется обождать до дому. Лишь бы маленький дотерпел… Ладно… Ладно… Это еще полбеды. Повязка на глазах – вот что пугает его больше всего… Что она скрывает? Может, под ней уже давно нет глаз, а лишь две черные заглатывающие дыры? Если этот скотина сделал, что хотел, если он выколол их… Не думай об этом! Нет смысла уже об этом думать! Но, если у мальчонки, и правда, уже нет глаз, как же тогда? Что делать? – Все возможное. В любом случае, СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ СПАСТИ.
– Останови лошадь, – говорит он Тито, – нужно посмотреть, что с малышом.
– Да… Только давай чуть левее. Там, кажется, река.
Действительно, где-то неподалеку – журчит, словно зазывая. Они сворачивают в направлении этого звука. Не река – ручеек: поблескивает призрачной нитью меж гладких камней. Тито первый спрыгивает с лошади, подходит к Хакобо, осторожно принимает в руки укутанного мальчика и, не проронив ни слова, поспешно направляется с ним к воде. Опускает подле себя на покрытые мхом камни, наклоняется, разворачивает, вытягивает его ножки, ручки. Начинает осторожно ощупывать.
– Переломов, похоже, нет…, – поясняет он подошедшему – индейцу, потом положив обе свои огромные ладони на впалый животик, вдавливает пальцами куда-то вверх, под торчащие ребра.
– Ты что делаешь?
– Проверяю… Все эти побои, увечья… Но главное, чтобы у него органы были целы.
– И как? Целы?
Тито лишь неопределенно подергивает плечом.
– Но, если бы у него был разрыв, он бы не выжил, так? – настаивает индеец, – Раз он выжил, значит все в порядке, так?
– Порядком тут и не пахнет, – не отрываясь от своего занятия, чуть слышно бурчит профессор. И через минуту, издав натужный вздох, – Деформация есть, но пока не чувствую каких-то серьезных внутренних повреждений. Впрочем, я не уверен. Если малыш очнется, там и станет ясно. Вот только… – боязливо проводит рукой по серому личику, – Не знаю, сколько дней этот изверг морил его голодом, но пить не давал уже как минимум дня два. У мальчика полное обезвоживание, – и, набрав в стиснутые ладони воды, подносит их к приоткрытым губам ребенка,
– Приподними его голову…