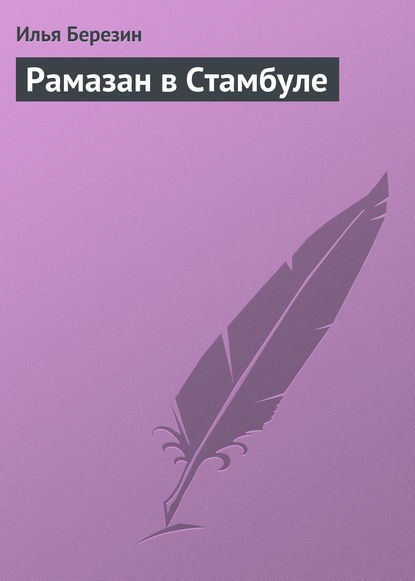По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рамазан в Стамбуле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как скоро жена башмачника проводила мужа со двора, ей захотелось видеть своего любовника, и она уведомила об этом посредницу: «Дай моему любезному весточку, что в нынешнюю ночь сахар будет свободен от докучливости мух, и беседа будет избавлена от страха стражи». Восхищенный этой вестью, юноша кинулся к дому своей возлюбленной, но пока он с нетерпением ждал у дверей, башмачник, точно внезапное горе, воротился нечаянно и увидел его у своего дома. Как он уже прежде имел кое-какие подозрения насчет верности своей супруги, и как эти подозрения подтвердились теперь присутствием этого юноши, башмачник предался бешенству ревности: войдя в дом, он схватил палку и прибил крепко жену, и потом привязав ее к столбу, сам лег спать.
Свидетель и этих событий, дервиш так рассуждал сам с собой: «Этот безжалостный человек без причины избил свою жену: мне бы следовало вступиться и воспрепятствовать столь дурному и несправедливому поступку». В это время он вдруг слышит крик жены цирюльника: «О жестокая любовница, зачем ты заставляешь этого бедного юношу так долго ждать? Иди же скорей.
Когда счастье улыбается тебе,
Не упускай случая воспользоваться им.
Жена башмачника подозвала ее и сказала ей печально: „Сердце, наслаждающееся полным спокойствием, знает ли муки сердца страждущего? Птички, играющие в небе и на верхушках кипарисов, могут ли постичь весь ужас жребия пленных их собратьев? О, женщина безжалостная! Выслушай сначала мои жалобы, узнай мое бедственное положение и потом упрекай меня. Жестокий мой муж видел этого юношу, и воспылав злобой, схватив палку, избив меня и привязав к столбу, сам удалился. Если ты имеешь какую-нибудь жалость к женщине так оскорбленной, и если ты не пожалеешь мази сострадания на болящую рану ее сердца, то отвяжи меня, и согласись побыть у столба на моем месте: позволь мне сходить к возлюбленному лишь выпросить прощение, и тогда я опять привяжусь на свое место. За такую услугу я буду вечно тебе признательна“. Тронутая цирюльница склонилась на просьбу своей подруги, а дервиш, все это слышавший, понял причину ссоры мужа с женой.
Между тем башмачник проснулся и начал кликать свою жену; но цирюльница, боясь обнаружить обман, не подавала голоса. Разъяренный муж вскочил, и отыскав кинжал, отрубил мнимой жене нос. Положив его на руку цирюльницы, он сказал: „возьми этот милый подарок и поднеси своему возлюбленному“. Бедная жена цирюльника, боясь большей беды, вытерпела все это молчаливо, думая лишь: „другие наслаждаются розой, а я страдаю от терниев“.
Вскоре возвратилась башмачница, узнала о несчастии своей подруги, много извинялась перед ней и наконец, отвязав ее, сама привязалась вновь к столбу. Бедная жена цирюльника ушла домой, в отчаянии, с носом в руках.
Дервиш, все это видевший, дивился такому необыкновенному, удивительному стечению обстоятельств, и когда он размышлял об этом, башмачница, подняв руки притворства и обмана к алтарю сетований, возопила: „О Аллах всемогущий! ничто от тебя не скрыто: ты знаешь неправду и истину. Этот нечестивый муженек опозорил меня невинную и жестоко наказал за преступление, которого я не сделала. Покрой меня, великий Аллах! милосердием твоим, и удостой возвратить на прежнее место этот член, украшение лица.
„Да возблистает лицо моей невинности,
И да падет покров лжи и подозрения!
Отгони от лица моего сумраки сомнения,
Открой эту тайну, покрытую облаками.
Избавь мою честь от руки преступления
И меня саму от этого жестокого бедствия“.
Между тем как хитрая женщина так молилась, башмачник проснулся и, прислушавшись к ее сетованиям, обратился к ней с такою речью: „О нечистая и развращенная женщина! Как ты осмеливаешься молиться? Разве ты не знаешь, что молитвы и просьбы нечестивых не доходят к этому двору Величия?
Если ты желаешь быть услышанной,
То должна иметь и язык и сердце равно чистые.
Спустя несколько минуть, жена вскричала: «О жестокий тиран! Поди сюда и будь свидетелем могущества и величия Аллаха. Зная невинность и чистоту моей жизни, Аллах удостоил, по своему милосердию, возвратить мой нос на прежнее место и избавить меня от незаслуженного поношения». Слыша эту речь, башмачник, человек простодушный и доверчивый, чрезвычайно изумился, и взяв свечу, приблизился к жене: тогда он увидел у нее нос совершенно целый, без малейшего признака повреждения. Пораженный таким чудом, башмачник признал свою ошибку, раскаялся в ней, и прося прощения, освободил жену, целовал руки и ноги у нее и обещался вперед заткнуть уши свои от злобных слов клеветников и сплетниц.
Тем временем жена цирюльника прибыла домой и не знала, как объяснить случившееся с ней несчастье и оправдать себя перед соседями. Цирюльник, которому показалось, что уж близок рассвет, потребовал у жены своей платье и цирюльничий прибор, чтоб идти к какой-то важной особе. Цирюльннца долго не отвечала ему, потом подала платье очень медленно и наконец, вынув одну бритву из футляра, дала мужу. Рассерженный всем этим, цирюльник оттолкнул с силой бритву к жене, которая вдруг завопила: «Ах, я несчастная!» Сбежались на крик ее соседи и знакомые, и увидали, что у нее отрезан нос: разумеется, вина пала на мужа, который не понимал, как это могло случиться, но между тем не смел запираться. Утром родственники жены отвели цирюльника к судье.
Случилось, что и дервиш пришел в эту пору к судье за розыском о своем ученике и шубе. Тогда он сказал судье: «О господин! это дело должно рассмотреть со всех сторон и тщательно исследовать его, чтоб добраться до истины, потому что ни вор не утащил бы у меня платья, ни олени не убили бы лисицу, яд не отравил бы злой женщины и башмачник не отрезал бы нос жене цирюльника, если бы все мы не были сами причиной этих бедствий. Тогда судья потребовал у дервиша обстоятельного объяснения, что тот и исполнил, рассказав все происшествия с начала до конца. – „Если бы я не пожадничал на большое число учеников, ко мне не забрался бы плут и не утащил бы жалованной шубы. Если бы лисица не пожадничала на кровь, то не погибла бы от оленей. Если бы та злая женщина не польстилась на большую прибыль, она не погибла бы от своего яда. Если бы жена цирюльника не помогала в том дурном деле, то башмачник не отрезал бы ей нос. Кто делает зло, не должен ожидать хорошего, и кто сеет горькое семя, не должен ожидать от него сладких плодов.
Один опытный наставник сказал:
Не делай зла, чтоб не получить его.
* * *
В этой повести довольно черт, характеризующих мусульманские нравы и мораль, и если бы останавливаться над каждой из них, то пришлось бы написать целую книгу; но мы представляем самому читателю вглядеться пристальнее в рассказ меддаха и переходим прямо к образцу повествований второго разряда, где рассказчик является вместе и автором: здесь мы обратим внимание и на самый язык рассказа.
Повесть о некоем докторе, жене его и сыне.
В одно время, когда еще не было пароходов, жил в Стамбуле некий хеким баши (главный доктор), большой любитель опиума и следовательно нелюбитель женского пола. Однажды, возвращаясь домой, он увидал спящего „бегчи“ (караульного в квартале) в положении, которое позволяло хеким-баши рассмотреть всю красоту его атлетических форм. Придя домой, хеким-баши рассказал смеха ради все жене своей, но вышло совсем не то действие, которого ожидал хеким-баши: жена его, как новая Зулейха, воспылала страстью к бегчи. На другой день, едва лишь хеким-баши отправился со двора по больным, как жена послала за бегчи, но на беду хеким-баши дорогой захворал и воротился домой: жена впопыхах спрятала бегчи в чулан.
Ночью бегчи заснул и, как следует исправному караульному, видит во сне пожар. „Янгын вар“, пожар! кричит он из всех сил, и всполошенный хеким-баши с ужасом узнает голос бегчи своего квартала. Выбежав на улицу, хеким-баши разыскивает пожар, но ничего не находит: успокоенный, он ложится опять спать и засыпает, по выражению рассказчика, сном „терьяки“ (принимающего опиум) – у терьяки сон не превосходит дремоты – но бегчи видит второй сон, и опять во сне грезится ему пожар. Янгын вар! кричит бегчи, и доктор на этот раз устремляется прямо к чулану, где спит караульный: найдя его здесь, хеким-баши обращается за объяснением к жене, а та говорить очень наивно: „бегчи носил нам воду для мытья белья и верно как-нибудь нечаянно заснул в чулане“.
У хеким-баши, кроме ветреной жены, есть еще сынок-недоросль, маменькин баловень. Как образованный человек, он заставляет сына учиться разным знаниям, которых и сам не понимает. Пользуясь этим, сынок постоянно городит отцу страшную чепуху и морочит его. (Эта сцена, представленная меддахом очень живо, имела большой успех.)
Бедный терьяки опивается опиуму и умирает; избалованный сынок начинает кутить и мотать отцовское наследство. (Первый приступ сынка к водке, отвращение борющееся с фанфаронством, были представлены меддахом превосходно.) Подпив порядком, сынок нанимает музыкантов и созывает весь мир на пирушку. Музыкантов является очень много.
– Кто вы? – спрашивает сынок одного из после пришедших музыкантов.
– Тулюм чалыджилер эфендим, играющие на волынке, – отвечают они. (Здесь спрятан каламбур: чалыджи значит и музыкант, и вор.)
Один из музыкантов рассказывает какую-то скандальную историю, а потом, когда они начинают играть, у него рвется струна.
– Нэ вар, что это такое? – спрашивает полупьяный сын хеким-баши.
– Эфеиндим, отвечает музыкант, „тель кирилдим, афвь идеиорсиз“, струна лопнула, господин, извините. (Здесь опять ловкий каламбур: „тель кирилмак“ значит и оборвать струну, и рассказать про кого-нибудь, не зная его лично, при нем же, какой-нибудь скандальный анекдот.)
Сынок кутит напропалую и мотает очень широко, так что в скором времени кредиторы являются осматривать заложенное последнее его достояние – дом, чтоб взять его за долг. Ничего не ведающая матушка спрашивает сынка: что это значит?
– Эви окуттук, – отвечает сын (т. е. мы смотрели дом, но „окутмак“ значит еще продавать что-нибудь за долг, так что ответ опять выходит искусным каламбуром).
Конец истории предвидеть не трудно.
Еще хорош рассказ о похождениях двух малоазийских турок, смотревших „биниш“ (выезд Султана Мустафы в Стамбуле), и поступавших как самые простодушные провинциалы, разумеется, достается мало-азийцам много, а биниша-то они все-таки не видали и с тем отправляются и на родину.
Есть много и других рассказов в этом роде, но приведенных, я полагаю, уже достаточно, может быть даже слишком: судить о них мы станем после.
Более распространенное и более нравящееся правоверным увеселение рамазанных ночей, есть „хиялн-зилль“, китайские тени, в простонародии называемые „хязиль“, наша кукольная комедия. Об историческом странствовании китайских теней на берега Босфора сказать ничего нельзя; известно только, что одно из двух главных действующих лиц этой кукольной комедий, карагеза (что значит черноглазый), знали и византийцы под именем харахос. Другое действующее лицо есть Айвас, везирь Мурада II. По мнению некоторых с его то времени началось представление карагеза. У турок был еще известный остряк Хаджа Наср-Эддин, но слава его ограничилась лишь собранием анекдотов его, уже несколько раз и напечатанных: эти анекдоты сильно напоминают нашего Балакирева.
Карагез – это самое употребительное название турецкой комедии – обыкновенно занимает угол кофейни: здесь развешивается занавес, посредине которого натянуто полотно, а сзади полотна помещена яркая лампа, огнем которой освещаются насквозь бумажные раскрашенные дрянные куклы, величиной в четверть, выставляемые на полотно. Разумеется, куклами этими распоряжается и говорит за них актер, сидящий за занавесом: только в тех комедиях, где бывает много действующих лиц, актер приглашает себе помощника, но по большей части он управляется со всеми куклами один. Разнообразие действующих лиц, состоящих из всех племен Турецкой Империи, требует от этого актера тех же сведений, которыми должен обладать и меддах; по частому появлению гяуров между действующими лицами актер должен знать кое-что и из европейских языков. Зато не нужно этому актеру ни особенно счастливой физиономии, ни замечательного дара слова, ни отличного уменья владеть голосом, ни пылкого воображения: актер ведет интригу очень просто и коротко, сцены следуют за сценами без особенной связи и даже не всегда оканчиваются естественно. Весь интерес комедий сосредоточен на двух героях – Карагезе и Хаджи-Айвасе: первый говорит всегда басом, а второй гнусит; первый выражается простонародно, тривиально, последний щеголяет отделанной фразою и фигуральными выражениями. Завязка комедий состоит в желании обоих друзей надуть в одурачить друг друга, что им и удается поочередно, но кажется, что Хаджи-Айвас поумнее своего товарища, который служит типом простодушного турка; к этим героям присоединяются другие лица – арабы, армяне, греки и франки. Выходы и входы кукол обозначаются игрой на бубне.
Я нисколько не преувеличу дела, если скажу, что особенную прелесть для правоверных составляют в карагезе скандальные происшествия. Непременно покажется удивительной страсть меддахов и актеров турецких выводить на сцену приключения с неверными женами, тогда как в мусульманском обществе неверная жена тотчас же подвергается смерти, и следовательно, строгость наказания застраховывает мусульманское общество от измены прекрасного пола. Но кто же не знает, что запрещенный плод вкуснее, и что поэтому и в турецких харемах, хотя и, редко, ведутся успешно любовные интриги, которые меддах и карагез представляют в преувеличенном виде? Не должно заключать из турецкой комедии, будто в Турции чрезвычайно распространена любовная интрига, в особенности у замужних женщин: напротив, как я уже сказал, эти приключения чрезвычайно редки и еще реже сходят с рук безнаказанно. Спрашивается: почему же меддах и карагез так часто и так нагло выводят неверную жену на сцену своих рассказов? Потому что чувственность составляет существенную черту мусульманского общества, и комедия турецкая не есть отражение господствующего порока в действии, но лишь представление моральной язвы, которой поражено общество. Во всех рассказах меддаха и в похождениях карагеза вы видите лишь плотскую страсть, нет и тени духовного стремления; это нераздельно присуще исламу, который весь проникнут чувственностью.
В карагезе чувственность доведена до самых грязных пределов: куклы постоянно являются хуже, чем в натуральном костюме, и сцены совершаются такие, и притом очень наивно, от которых само бесстыдство отвратилось бы. Но таков вкус нации, что и турки и райя стекаются с наслаждением на эту комедию; с крайней горестью скажу, что на карагеза ходят во множестве и маленькие девочки, а во время пребывания на Принцевых островах я видель в этой комедий довольно порядочных армянок и гречанок, молодых жен негоциантов, от души хохотавших над срамными приключениями Хаджи-Айваса. Так глубоко падение турецкого общества, что никто из членов его и не постигает бездны, в которую он упал! Пускай эта наивность бесстыдства и спасает мусульман от других утонченных пороков, но она покупается чересчур дорогой ценой.
Карагез, как и полишинель, осмеивает все, иногда даже примешивая политические события и пашей, любит потешиться над гяурами, которых постоянно выводит в смешном виде; обладает порядочным запасом остроумия и каламбуров, к которым турецкий язык способен, но весь труд карагеза остается без всяких последствий: турки и райя похохочут над его выходками, и тем дело кончается, никто не думает об исправлении. Да и сам актер или автор карагеза имеет лишь ввиду позабавить слушателей, а не бичевать общество.
Карагез дается в кофейных и в обыкновенное время, только очень редко; в рамазанные же ночи на одного меддаха наверное приходится до пяти карагезов. Представления начинаются с 9 часов и оканчиваются к 11 или 12 часам; за вход в комедию платится полтора пиастра (7,5 коп. сер.), и сверх скандального представления зритель получает даром трубку и скверный горячий шербет. Для европейца, не владеющего вполне турецким языком, карагез и непонятен, и скучен, и даже отвратителен; особенно скучны места, когда актер поет, иногда очень долго, какой-нибудь романс, за одно из действующих лиц.
Хотя изучение мусульманского общества для нас более интересно с отрицательной стороны, однако я не побоюсь привести здесь некоторые сцены карагеза, чтобы дать читателю выгодное понятие о турецком полишинеле, сгладив разумеется неудобные в печати места. Забава целой нации стоит того, чтоб хотя бы однажды обратить на нее вниимание.
В кофейне на конце главной улицы в Пере, близ казарм большого Поля Мертвых, в мусульманском квартале, давал карагеза лучший актер, вероятно потому, что и кофейня принадлежит к числу лучших во всем Стамбуле. К кофейне примыкает большой сад, посреди которого была раскинута палатка, и в ней-то помещался лучший карагез. Сюда приходило много и европейцев из Перы, в том числе и я посещал усердно турецкую комедию. Вот одна из версий этой кофейни:
Хаджи-Айвас хвастает верностью своей жены и сомневается в жене Карагеза: этот рассердился, прибил и прогнал своего друга, а потом идет справляться о нравственности своей половины. Прежде всего он зовет квартального, но вместо квартального является старик „терьяки“, принимающий опиум и все спящий. Карагез обращается к нему с вопросом:
– „Карагезын карыси насл билирсен“, какова жена у Карагеза?
Терьяки лишь хранит в ответ, но карагез не отстает от терьяки и наконец будит его. Тот кричит:
– Бесчестная!
Карагез не довольствуется тем и обращается с таким же вопросом к Френгу, Арнауту и дровосеку и от всех получает одинаковый ответ: Бесчестная (каждое из этих лиц выражается по-турецки по своему, что производит в публике раскатистый смех).
Карагез в горе и отчаянии отправляется домой, но на пути видит жену Хаджи-Айваса и какого-то армянина: первая приглашает армянина к себе на свидание. Карагез слышит весь их разговор и вполне утешается в своем несчастье позором Хаджи-Айваса.
В эту версию вставлен был эпизод черного араба, который бьет карагеза и заставляет его умереть аршином; Карагез повторяет потом эту сцену на Хаджи-Айвасе, который кричит:
Свидетель и этих событий, дервиш так рассуждал сам с собой: «Этот безжалостный человек без причины избил свою жену: мне бы следовало вступиться и воспрепятствовать столь дурному и несправедливому поступку». В это время он вдруг слышит крик жены цирюльника: «О жестокая любовница, зачем ты заставляешь этого бедного юношу так долго ждать? Иди же скорей.
Когда счастье улыбается тебе,
Не упускай случая воспользоваться им.
Жена башмачника подозвала ее и сказала ей печально: „Сердце, наслаждающееся полным спокойствием, знает ли муки сердца страждущего? Птички, играющие в небе и на верхушках кипарисов, могут ли постичь весь ужас жребия пленных их собратьев? О, женщина безжалостная! Выслушай сначала мои жалобы, узнай мое бедственное положение и потом упрекай меня. Жестокий мой муж видел этого юношу, и воспылав злобой, схватив палку, избив меня и привязав к столбу, сам удалился. Если ты имеешь какую-нибудь жалость к женщине так оскорбленной, и если ты не пожалеешь мази сострадания на болящую рану ее сердца, то отвяжи меня, и согласись побыть у столба на моем месте: позволь мне сходить к возлюбленному лишь выпросить прощение, и тогда я опять привяжусь на свое место. За такую услугу я буду вечно тебе признательна“. Тронутая цирюльница склонилась на просьбу своей подруги, а дервиш, все это слышавший, понял причину ссоры мужа с женой.
Между тем башмачник проснулся и начал кликать свою жену; но цирюльница, боясь обнаружить обман, не подавала голоса. Разъяренный муж вскочил, и отыскав кинжал, отрубил мнимой жене нос. Положив его на руку цирюльницы, он сказал: „возьми этот милый подарок и поднеси своему возлюбленному“. Бедная жена цирюльника, боясь большей беды, вытерпела все это молчаливо, думая лишь: „другие наслаждаются розой, а я страдаю от терниев“.
Вскоре возвратилась башмачница, узнала о несчастии своей подруги, много извинялась перед ней и наконец, отвязав ее, сама привязалась вновь к столбу. Бедная жена цирюльника ушла домой, в отчаянии, с носом в руках.
Дервиш, все это видевший, дивился такому необыкновенному, удивительному стечению обстоятельств, и когда он размышлял об этом, башмачница, подняв руки притворства и обмана к алтарю сетований, возопила: „О Аллах всемогущий! ничто от тебя не скрыто: ты знаешь неправду и истину. Этот нечестивый муженек опозорил меня невинную и жестоко наказал за преступление, которого я не сделала. Покрой меня, великий Аллах! милосердием твоим, и удостой возвратить на прежнее место этот член, украшение лица.
„Да возблистает лицо моей невинности,
И да падет покров лжи и подозрения!
Отгони от лица моего сумраки сомнения,
Открой эту тайну, покрытую облаками.
Избавь мою честь от руки преступления
И меня саму от этого жестокого бедствия“.
Между тем как хитрая женщина так молилась, башмачник проснулся и, прислушавшись к ее сетованиям, обратился к ней с такою речью: „О нечистая и развращенная женщина! Как ты осмеливаешься молиться? Разве ты не знаешь, что молитвы и просьбы нечестивых не доходят к этому двору Величия?
Если ты желаешь быть услышанной,
То должна иметь и язык и сердце равно чистые.
Спустя несколько минуть, жена вскричала: «О жестокий тиран! Поди сюда и будь свидетелем могущества и величия Аллаха. Зная невинность и чистоту моей жизни, Аллах удостоил, по своему милосердию, возвратить мой нос на прежнее место и избавить меня от незаслуженного поношения». Слыша эту речь, башмачник, человек простодушный и доверчивый, чрезвычайно изумился, и взяв свечу, приблизился к жене: тогда он увидел у нее нос совершенно целый, без малейшего признака повреждения. Пораженный таким чудом, башмачник признал свою ошибку, раскаялся в ней, и прося прощения, освободил жену, целовал руки и ноги у нее и обещался вперед заткнуть уши свои от злобных слов клеветников и сплетниц.
Тем временем жена цирюльника прибыла домой и не знала, как объяснить случившееся с ней несчастье и оправдать себя перед соседями. Цирюльник, которому показалось, что уж близок рассвет, потребовал у жены своей платье и цирюльничий прибор, чтоб идти к какой-то важной особе. Цирюльннца долго не отвечала ему, потом подала платье очень медленно и наконец, вынув одну бритву из футляра, дала мужу. Рассерженный всем этим, цирюльник оттолкнул с силой бритву к жене, которая вдруг завопила: «Ах, я несчастная!» Сбежались на крик ее соседи и знакомые, и увидали, что у нее отрезан нос: разумеется, вина пала на мужа, который не понимал, как это могло случиться, но между тем не смел запираться. Утром родственники жены отвели цирюльника к судье.
Случилось, что и дервиш пришел в эту пору к судье за розыском о своем ученике и шубе. Тогда он сказал судье: «О господин! это дело должно рассмотреть со всех сторон и тщательно исследовать его, чтоб добраться до истины, потому что ни вор не утащил бы у меня платья, ни олени не убили бы лисицу, яд не отравил бы злой женщины и башмачник не отрезал бы нос жене цирюльника, если бы все мы не были сами причиной этих бедствий. Тогда судья потребовал у дервиша обстоятельного объяснения, что тот и исполнил, рассказав все происшествия с начала до конца. – „Если бы я не пожадничал на большое число учеников, ко мне не забрался бы плут и не утащил бы жалованной шубы. Если бы лисица не пожадничала на кровь, то не погибла бы от оленей. Если бы та злая женщина не польстилась на большую прибыль, она не погибла бы от своего яда. Если бы жена цирюльника не помогала в том дурном деле, то башмачник не отрезал бы ей нос. Кто делает зло, не должен ожидать хорошего, и кто сеет горькое семя, не должен ожидать от него сладких плодов.
Один опытный наставник сказал:
Не делай зла, чтоб не получить его.
* * *
В этой повести довольно черт, характеризующих мусульманские нравы и мораль, и если бы останавливаться над каждой из них, то пришлось бы написать целую книгу; но мы представляем самому читателю вглядеться пристальнее в рассказ меддаха и переходим прямо к образцу повествований второго разряда, где рассказчик является вместе и автором: здесь мы обратим внимание и на самый язык рассказа.
Повесть о некоем докторе, жене его и сыне.
В одно время, когда еще не было пароходов, жил в Стамбуле некий хеким баши (главный доктор), большой любитель опиума и следовательно нелюбитель женского пола. Однажды, возвращаясь домой, он увидал спящего „бегчи“ (караульного в квартале) в положении, которое позволяло хеким-баши рассмотреть всю красоту его атлетических форм. Придя домой, хеким-баши рассказал смеха ради все жене своей, но вышло совсем не то действие, которого ожидал хеким-баши: жена его, как новая Зулейха, воспылала страстью к бегчи. На другой день, едва лишь хеким-баши отправился со двора по больным, как жена послала за бегчи, но на беду хеким-баши дорогой захворал и воротился домой: жена впопыхах спрятала бегчи в чулан.
Ночью бегчи заснул и, как следует исправному караульному, видит во сне пожар. „Янгын вар“, пожар! кричит он из всех сил, и всполошенный хеким-баши с ужасом узнает голос бегчи своего квартала. Выбежав на улицу, хеким-баши разыскивает пожар, но ничего не находит: успокоенный, он ложится опять спать и засыпает, по выражению рассказчика, сном „терьяки“ (принимающего опиум) – у терьяки сон не превосходит дремоты – но бегчи видит второй сон, и опять во сне грезится ему пожар. Янгын вар! кричит бегчи, и доктор на этот раз устремляется прямо к чулану, где спит караульный: найдя его здесь, хеким-баши обращается за объяснением к жене, а та говорить очень наивно: „бегчи носил нам воду для мытья белья и верно как-нибудь нечаянно заснул в чулане“.
У хеким-баши, кроме ветреной жены, есть еще сынок-недоросль, маменькин баловень. Как образованный человек, он заставляет сына учиться разным знаниям, которых и сам не понимает. Пользуясь этим, сынок постоянно городит отцу страшную чепуху и морочит его. (Эта сцена, представленная меддахом очень живо, имела большой успех.)
Бедный терьяки опивается опиуму и умирает; избалованный сынок начинает кутить и мотать отцовское наследство. (Первый приступ сынка к водке, отвращение борющееся с фанфаронством, были представлены меддахом превосходно.) Подпив порядком, сынок нанимает музыкантов и созывает весь мир на пирушку. Музыкантов является очень много.
– Кто вы? – спрашивает сынок одного из после пришедших музыкантов.
– Тулюм чалыджилер эфендим, играющие на волынке, – отвечают они. (Здесь спрятан каламбур: чалыджи значит и музыкант, и вор.)
Один из музыкантов рассказывает какую-то скандальную историю, а потом, когда они начинают играть, у него рвется струна.
– Нэ вар, что это такое? – спрашивает полупьяный сын хеким-баши.
– Эфеиндим, отвечает музыкант, „тель кирилдим, афвь идеиорсиз“, струна лопнула, господин, извините. (Здесь опять ловкий каламбур: „тель кирилмак“ значит и оборвать струну, и рассказать про кого-нибудь, не зная его лично, при нем же, какой-нибудь скандальный анекдот.)
Сынок кутит напропалую и мотает очень широко, так что в скором времени кредиторы являются осматривать заложенное последнее его достояние – дом, чтоб взять его за долг. Ничего не ведающая матушка спрашивает сынка: что это значит?
– Эви окуттук, – отвечает сын (т. е. мы смотрели дом, но „окутмак“ значит еще продавать что-нибудь за долг, так что ответ опять выходит искусным каламбуром).
Конец истории предвидеть не трудно.
Еще хорош рассказ о похождениях двух малоазийских турок, смотревших „биниш“ (выезд Султана Мустафы в Стамбуле), и поступавших как самые простодушные провинциалы, разумеется, достается мало-азийцам много, а биниша-то они все-таки не видали и с тем отправляются и на родину.
Есть много и других рассказов в этом роде, но приведенных, я полагаю, уже достаточно, может быть даже слишком: судить о них мы станем после.
Более распространенное и более нравящееся правоверным увеселение рамазанных ночей, есть „хиялн-зилль“, китайские тени, в простонародии называемые „хязиль“, наша кукольная комедия. Об историческом странствовании китайских теней на берега Босфора сказать ничего нельзя; известно только, что одно из двух главных действующих лиц этой кукольной комедий, карагеза (что значит черноглазый), знали и византийцы под именем харахос. Другое действующее лицо есть Айвас, везирь Мурада II. По мнению некоторых с его то времени началось представление карагеза. У турок был еще известный остряк Хаджа Наср-Эддин, но слава его ограничилась лишь собранием анекдотов его, уже несколько раз и напечатанных: эти анекдоты сильно напоминают нашего Балакирева.
Карагез – это самое употребительное название турецкой комедии – обыкновенно занимает угол кофейни: здесь развешивается занавес, посредине которого натянуто полотно, а сзади полотна помещена яркая лампа, огнем которой освещаются насквозь бумажные раскрашенные дрянные куклы, величиной в четверть, выставляемые на полотно. Разумеется, куклами этими распоряжается и говорит за них актер, сидящий за занавесом: только в тех комедиях, где бывает много действующих лиц, актер приглашает себе помощника, но по большей части он управляется со всеми куклами один. Разнообразие действующих лиц, состоящих из всех племен Турецкой Империи, требует от этого актера тех же сведений, которыми должен обладать и меддах; по частому появлению гяуров между действующими лицами актер должен знать кое-что и из европейских языков. Зато не нужно этому актеру ни особенно счастливой физиономии, ни замечательного дара слова, ни отличного уменья владеть голосом, ни пылкого воображения: актер ведет интригу очень просто и коротко, сцены следуют за сценами без особенной связи и даже не всегда оканчиваются естественно. Весь интерес комедий сосредоточен на двух героях – Карагезе и Хаджи-Айвасе: первый говорит всегда басом, а второй гнусит; первый выражается простонародно, тривиально, последний щеголяет отделанной фразою и фигуральными выражениями. Завязка комедий состоит в желании обоих друзей надуть в одурачить друг друга, что им и удается поочередно, но кажется, что Хаджи-Айвас поумнее своего товарища, который служит типом простодушного турка; к этим героям присоединяются другие лица – арабы, армяне, греки и франки. Выходы и входы кукол обозначаются игрой на бубне.
Я нисколько не преувеличу дела, если скажу, что особенную прелесть для правоверных составляют в карагезе скандальные происшествия. Непременно покажется удивительной страсть меддахов и актеров турецких выводить на сцену приключения с неверными женами, тогда как в мусульманском обществе неверная жена тотчас же подвергается смерти, и следовательно, строгость наказания застраховывает мусульманское общество от измены прекрасного пола. Но кто же не знает, что запрещенный плод вкуснее, и что поэтому и в турецких харемах, хотя и, редко, ведутся успешно любовные интриги, которые меддах и карагез представляют в преувеличенном виде? Не должно заключать из турецкой комедии, будто в Турции чрезвычайно распространена любовная интрига, в особенности у замужних женщин: напротив, как я уже сказал, эти приключения чрезвычайно редки и еще реже сходят с рук безнаказанно. Спрашивается: почему же меддах и карагез так часто и так нагло выводят неверную жену на сцену своих рассказов? Потому что чувственность составляет существенную черту мусульманского общества, и комедия турецкая не есть отражение господствующего порока в действии, но лишь представление моральной язвы, которой поражено общество. Во всех рассказах меддаха и в похождениях карагеза вы видите лишь плотскую страсть, нет и тени духовного стремления; это нераздельно присуще исламу, который весь проникнут чувственностью.
В карагезе чувственность доведена до самых грязных пределов: куклы постоянно являются хуже, чем в натуральном костюме, и сцены совершаются такие, и притом очень наивно, от которых само бесстыдство отвратилось бы. Но таков вкус нации, что и турки и райя стекаются с наслаждением на эту комедию; с крайней горестью скажу, что на карагеза ходят во множестве и маленькие девочки, а во время пребывания на Принцевых островах я видель в этой комедий довольно порядочных армянок и гречанок, молодых жен негоциантов, от души хохотавших над срамными приключениями Хаджи-Айваса. Так глубоко падение турецкого общества, что никто из членов его и не постигает бездны, в которую он упал! Пускай эта наивность бесстыдства и спасает мусульман от других утонченных пороков, но она покупается чересчур дорогой ценой.
Карагез, как и полишинель, осмеивает все, иногда даже примешивая политические события и пашей, любит потешиться над гяурами, которых постоянно выводит в смешном виде; обладает порядочным запасом остроумия и каламбуров, к которым турецкий язык способен, но весь труд карагеза остается без всяких последствий: турки и райя похохочут над его выходками, и тем дело кончается, никто не думает об исправлении. Да и сам актер или автор карагеза имеет лишь ввиду позабавить слушателей, а не бичевать общество.
Карагез дается в кофейных и в обыкновенное время, только очень редко; в рамазанные же ночи на одного меддаха наверное приходится до пяти карагезов. Представления начинаются с 9 часов и оканчиваются к 11 или 12 часам; за вход в комедию платится полтора пиастра (7,5 коп. сер.), и сверх скандального представления зритель получает даром трубку и скверный горячий шербет. Для европейца, не владеющего вполне турецким языком, карагез и непонятен, и скучен, и даже отвратителен; особенно скучны места, когда актер поет, иногда очень долго, какой-нибудь романс, за одно из действующих лиц.
Хотя изучение мусульманского общества для нас более интересно с отрицательной стороны, однако я не побоюсь привести здесь некоторые сцены карагеза, чтобы дать читателю выгодное понятие о турецком полишинеле, сгладив разумеется неудобные в печати места. Забава целой нации стоит того, чтоб хотя бы однажды обратить на нее вниимание.
В кофейне на конце главной улицы в Пере, близ казарм большого Поля Мертвых, в мусульманском квартале, давал карагеза лучший актер, вероятно потому, что и кофейня принадлежит к числу лучших во всем Стамбуле. К кофейне примыкает большой сад, посреди которого была раскинута палатка, и в ней-то помещался лучший карагез. Сюда приходило много и европейцев из Перы, в том числе и я посещал усердно турецкую комедию. Вот одна из версий этой кофейни:
Хаджи-Айвас хвастает верностью своей жены и сомневается в жене Карагеза: этот рассердился, прибил и прогнал своего друга, а потом идет справляться о нравственности своей половины. Прежде всего он зовет квартального, но вместо квартального является старик „терьяки“, принимающий опиум и все спящий. Карагез обращается к нему с вопросом:
– „Карагезын карыси насл билирсен“, какова жена у Карагеза?
Терьяки лишь хранит в ответ, но карагез не отстает от терьяки и наконец будит его. Тот кричит:
– Бесчестная!
Карагез не довольствуется тем и обращается с таким же вопросом к Френгу, Арнауту и дровосеку и от всех получает одинаковый ответ: Бесчестная (каждое из этих лиц выражается по-турецки по своему, что производит в публике раскатистый смех).
Карагез в горе и отчаянии отправляется домой, но на пути видит жену Хаджи-Айваса и какого-то армянина: первая приглашает армянина к себе на свидание. Карагез слышит весь их разговор и вполне утешается в своем несчастье позором Хаджи-Айваса.
В эту версию вставлен был эпизод черного араба, который бьет карагеза и заставляет его умереть аршином; Карагез повторяет потом эту сцену на Хаджи-Айвасе, который кричит: