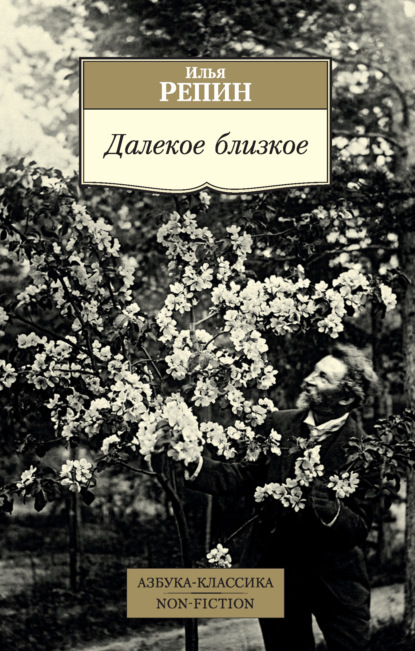По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое близкое
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я подивился тогда нежной душе этой женщины. С какой убедительностью разъясняла она ему положение всех его дел и с огромным опытом и знанием всех обстоятельств убеждала серьезно заняться, пока еще не поздно, восстановлением, видимо, пошатнувшихся дел. Но он, очевидно, давно уже на все махнул рукой и только по необходимости медленно подвигался к провалу.
Приехали наши позолотчики, резчики. Наступали холода; мы устроились на теплой квартире в некоем большом доме, где для мастерской заняли большой зал. «Писали – не гуляли». Даже вечерами и ранним утром при свечах, приделанных к палитре, всё писали и писали образа.
Моей работой хозяин был доволен, только не нравилось ему, что я много переделываю и очень часто вскакиваю со стула, чтобы взглянуть издали на свою работу. Самому ему уже неловко становилось делать мне эти замечания, и он просил товарищей, моих земляков, посоветовать мне не тратить понапрасну времени на постоянные переделки.
– Как бы он ни сделал, – говорил он, – все будет хорошо и сойдет; и не стоит трудиться так для бессмысленных прихожан и попов, которые все равно ничего не понимают.
Екатерина Васильевна настаивала, чтобы я непременно приходил обедать с ними. Большею частью я отказывался под разными предлогами, так как товарищи косились на меня и, конечно, предполагали, что я там делаю хозяевам секретные доклады об их лености.
Скучновато мне жилось, но неприятнее всего были постоянные слухи, что Никулин прогорает и что платить ему нам скоро будет нечем.
Я наконец решился послать домой письмо, чтобы меня экстренно вытребовали по необходимому делу и прислали бы за мною подводу, так как боялся ничего здесь не заработать для своих дальних планов – Петербурга.
Однако Никулин мне все заплатил.
Шестого декабря я выехал из Каменки на присланной мне из Чугуева подводе, и целую ночь, морозную и метельную, мы сбивались по сугробам во тьме и руками нащупывали дорогу. Уже перед рассветом мы прибились к какому-то селу, где добрые люди пустили нас отогреться и покормить лошадей.
До сих пор мне отрадно вспоминается и обширная изба, и большой семейный стол, и жарко топившаяся печь, и весело горевший каганец[37 - Каганец – светильник в виде плошки с салом и фитилем.], и вся семья, поднимавшаяся зимой в четыре часа утра. Усадили и нас вместе с собою «за раннiй снiданок»[38 - Раннiй снiданок – ранний завтрак (укр.).]. От голоду и холоду и от долгого ночного блуждания мы ели с наслаждением. Была рыба под бурачным квасом, были мандрыки[39 - Мандрыки – пончики с начинкой (укр.).] из творога, горячие лепешки с дивной густой сметаной. Ой как мы наелись! Я решился заплатить без торгу, что бы ни спросили.
– Оце ж! Та хиба ж мы хлiбом та снiдью торгуем? – укоризненно ответил хозяин на мой вопрос о плате. – Hi, нi, боговi свiчку вiддасте, як пiдете до церкви.
Так и не взяли ничего, даже за корм лошадям, которым дали и сена, и овсеца. Милые, добрые люди! Какие тихие, веселые и радушные…
Дома на свободе я стал компоновать картину «Воевода» (по стихам Мицкевича, в переводе Пушкина) и писать портреты родственников и близких, кто мог мне позировать: дядей, теток и двоюродных братьев и сестер. Тонким карандашиком, будучи в гостях, я не раз рисовал кого-нибудь.
– А можно с себя самого? – спросила однажды маменька.
Я взял небольшой картончик для писания своего портрета и увлекся; натурщик я был безответный, портрет вышел очень похож и очень понравился моей матери.
– В этом лице мальчика – ум взрослого, – сказала маменька.
Все родные и знакомые одобряли мой автопортрет и подолгу почему-то останавливались перед ним.
В это время в Чугуев переехала на жительство огромная семья первогильдейского купца Овчинникова. У него было шесть дочерей и четыре сына. Прошли слухи, что Овчинников разорился в Харькове на большой торговле. Однако он занимал огромный дом на Дворянской улице и часто у них были веселые вечера с танцами. Многие из членов семьи были недурные гитаристы, девицы мило пели, и постоянно, особенно когда приезжали кавалеры их из Харькова или соседние помещики, вечера удавались интересные, веселые, оживленные и длились до поздних часов ночи, начавшись иногда с двух часов дня.
Надо признаться, сердце мое было очень задето одною из дочерей, высокою блондинкой Марианной, и из-за нее я терпел самую назойливую привязанность к себе ее меньшого брата. Огромный, добродушный, веселый, краснощекий, он не расставался с гитарой и вместе с ней и ко мне питал платоническую и невыразимую привязанность. Он совершенно не желал расставаться со мною, и, придя с самого утра, он весь день играл на гитаре и пел, не будучи при этом мне в тягость.
Правда, он был огромен, прост, откровенен до святости, иногда назойлив в просьбах, но его нежная любовь ко мне мирила меня с ним, и это чувство заменяло ему деликатность. Ни один интересный вечер или утро в их семье он не мог провести без меня и иногда силой, а силища у него была атлетическая, уволакивал меня к себе. Однако, заметив мою тайную страсть к своей сестре Марианне, он сейчас же выдал ее сестрам, и это меня страшно угнетало и конфузило.
И вот надо было видеть и слышать восторг этого Алкида, когда он увидал мой автопортрет! Нагоготавшись, накричавшись, наизумлявшись без конца перед моим маленьким картончиком, он бросился ко мне, подхватил меня на руки и как полоумный стал бегать со мною по комнатам. Он так сжимал меня в объятиях, что у меня трещали ребра, и я уже не в шутку молил об избавлении. В заключение он осыпал не только меня, но даже и мои руки сочными и яркими поцелуями своих добрых, красивых губ.
Едва-едва успокоившись, он взял гитару и, ухарски покачивая красивой головой, звонко запел свою любимую хохлацкую песенку:
Як би менi не тини,
Та не перетинки,
Но ходив би до дiвчат
Робити дитинки.
После такого сильного восторга я получил и соответствующее огорчение.
Разумеется, мой влюбленный друг, придя домой, не мог не поделиться своим восторгом с семейством и так захлебывался похвалами портрету, что при первой нашей встрече и сестры начали просить меня, чтобы я принес им показать свой портрет, но я решительно отказался.
Однажды, возвратившись откуда-то домой, я узнал, что Овчинников без меня взял со стены портрет мой и унес.
– Как же вы отдали? – укоряю я маменьку. – Ведь вы знаете, что я этого ему никогда не позволил бы.
– Да что же с ним, верзилой, поделаешь? Схватил, поднял над головой, ручищи у него как железо, куда тебе с ним тягаться! И ведь добряк, гогочет как сумасшедший, целует руки. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас назад принесу. Илюша и не узнает…» Уж я ему так пригрозила, я думаю, он сейчас принесет портретик.
Я вскипел страшным негодованием и сейчас же пошел к Овчинниковым.
Вижу: посреди залы большая группа и своих, и гостей разинув рты обступила моего друга, а он, торжественно подняв мой портрет выше всех, поворачивает его во все стороны и с торжеством обводит всех глазами, видя несомненный, даже превзошедший его ожидания успех.
Я, клокочущий негодованием, не отвечая на приветствия милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет у Алкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части.
Это вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего ни видеть, ни слышать.
– Как вы смеете! – почти заплакал Алкид. – Вы не имеете права! Это стыдно!
После мгновения какого-то общего стона я круто повернулся и быстро пошел к двери… Мой друг со слезами и в голосе, и в глазах вошел в такой раж, что, казалось, еще минута – и он убил бы меня на месте; но я быстро, не оглядываясь, почти бежал домой.
Украинское военное поселение
Самая благотворная и полезная для человечества идея, если она вводится правительством в подвластной стране по принуждению, быстро делается божьим наказанием народу.
Так было и с военными поселениями у нас в России. Идеально настроенный Лагарпом, Александр I думал осчастливить свой народ, дав ему новые полезнейшие формы жизни. Он поручил устройство этих новых форм опытным инструкторам. Казалось, осуществится если не рай на земле, то уже наверно – благоденствие края.
Разумеется, по манию царя все делается быстро, без прекословий. Нет ничего невозможного: ефрейторы – народ дрессированный, средства верные – порка непокорных и непонятливых. И вот великие идеи гуманистов попадают с места в карьер на испытание в исполнительные руки Аракчеева.
Крутыми мерами стала осуществляться прививка добрых начал – на казенный счет – «без лести преданным» Аракчеевым. Теория Овена[40 - То есть английского философа и педагога Роберта Оуэна.] – воспитание человеческого характера – быстро фиксировалась шпицрутенами. Потомки вольного казачества закрепощались в муштре. Из поселений вырастало по писаному иго государственного крепостничества. Характер простоватого казака быстро перевоспитывался в будущего каторжанина, воспитывался образцово и множился быстро. Остроги и Сибирь заполнялись беглыми и штрафными солдатами.
«От сумы да от тюрьмы не зарекайся», – философствовал народ.
В то время, в начале пятидесятых годов прошлого столетия, крепостные люди произвели уже много бунтов и расправ со своими господами. Яша Бочаров, будучи юнкером, только что вернулся тогда из окрестностей Елисаветграда – Умани, куда их отряд был командирован на усмирение крепостных князя Лопухина. Он рассказывал, какие западни изобретали на них хохлы-крепаки и как сам он однажды попал к ним в землянку в лесу. В таких тайниках они расправлялись с господами и даже с вооруженными офицерами. На его счастье, патруль в лесу наткнулся на эту землянку и его отбили свои солдаты.
И ружья, и заостренные косы, и вилы – все пускали в ход выведенные из терпения хлеборобы.
Надо признаться, что мы тогда соприкасались больше со средою господ, видели чаще только показную сторону поселенных улучшений жизни и, соответственно помещичьим взглядам, были довольны успехом усмирявших войск.
В то время Чугуев начал сильно процветать и богатеть. Летом на царские маневры съезжалось туда много господ не только из столиц, больших ближайших городов, но также и из помещичьих имений, где каждый неограниченный повелитель своих деревень, иногда многих тысяч душ, устраивался дома по-царски, а в городе занимал лучшие дома под постоянные квартиры, задавал пиры и, следовательно, давал шибко торговать купцам самых лучших магазинов. И лавки наши все увеличивались в числе и щеголяли лучшими продуктами.
Мастерские всех родов, и статские, и военные, были завалены работой. Ночи напролет многие места Чугуева и его окрестности оглашались звуками музыки бальных оркестров, большею частью в садах на танцевальных «ротондах».
Семейные помещики, щедро облагодетельствованные дарами прекрасного пола, привозили в Чугуев целые цветники «неземных созданий». Устраивались parties de plaisir[41 - Увеселительные прогулки (фр.).] и партии более серьезного жизненного характера: военные всегда храбро и быстро женятся.
Да, в Чугуеве жилось весело: даже в самых бедных и многочисленных (как же иначе?) помещичьих дворнях часто слышалась повторяемая крепостными на разные лады пословица: «Хоть есть нечего, так жить весело».
Лично моя жизнь этого времени была также самая веселая. Подростком, за компанию с сестрою, я попадал на балы и вечера молодежи, на маевки в самое цветущее время весны в Староверском лесу, с хорами трубачей. Дикий терн, дички груши, черешни и вишни – все сады бесконечного южного склона от Осиновки и Пристена до самых «Матерей», облитые, как молоком, обильными букетами цветов, – все улыбалось нашим весельям в складчину.
Нашим излюбленным местом был Староверский лес по южному склону к Донцу. Теперь здесь вокзал железной дороги, дубовый и кленовый лес вырублен, и тех мест более узнать нельзя.
Приехали наши позолотчики, резчики. Наступали холода; мы устроились на теплой квартире в некоем большом доме, где для мастерской заняли большой зал. «Писали – не гуляли». Даже вечерами и ранним утром при свечах, приделанных к палитре, всё писали и писали образа.
Моей работой хозяин был доволен, только не нравилось ему, что я много переделываю и очень часто вскакиваю со стула, чтобы взглянуть издали на свою работу. Самому ему уже неловко становилось делать мне эти замечания, и он просил товарищей, моих земляков, посоветовать мне не тратить понапрасну времени на постоянные переделки.
– Как бы он ни сделал, – говорил он, – все будет хорошо и сойдет; и не стоит трудиться так для бессмысленных прихожан и попов, которые все равно ничего не понимают.
Екатерина Васильевна настаивала, чтобы я непременно приходил обедать с ними. Большею частью я отказывался под разными предлогами, так как товарищи косились на меня и, конечно, предполагали, что я там делаю хозяевам секретные доклады об их лености.
Скучновато мне жилось, но неприятнее всего были постоянные слухи, что Никулин прогорает и что платить ему нам скоро будет нечем.
Я наконец решился послать домой письмо, чтобы меня экстренно вытребовали по необходимому делу и прислали бы за мною подводу, так как боялся ничего здесь не заработать для своих дальних планов – Петербурга.
Однако Никулин мне все заплатил.
Шестого декабря я выехал из Каменки на присланной мне из Чугуева подводе, и целую ночь, морозную и метельную, мы сбивались по сугробам во тьме и руками нащупывали дорогу. Уже перед рассветом мы прибились к какому-то селу, где добрые люди пустили нас отогреться и покормить лошадей.
До сих пор мне отрадно вспоминается и обширная изба, и большой семейный стол, и жарко топившаяся печь, и весело горевший каганец[37 - Каганец – светильник в виде плошки с салом и фитилем.], и вся семья, поднимавшаяся зимой в четыре часа утра. Усадили и нас вместе с собою «за раннiй снiданок»[38 - Раннiй снiданок – ранний завтрак (укр.).]. От голоду и холоду и от долгого ночного блуждания мы ели с наслаждением. Была рыба под бурачным квасом, были мандрыки[39 - Мандрыки – пончики с начинкой (укр.).] из творога, горячие лепешки с дивной густой сметаной. Ой как мы наелись! Я решился заплатить без торгу, что бы ни спросили.
– Оце ж! Та хиба ж мы хлiбом та снiдью торгуем? – укоризненно ответил хозяин на мой вопрос о плате. – Hi, нi, боговi свiчку вiддасте, як пiдете до церкви.
Так и не взяли ничего, даже за корм лошадям, которым дали и сена, и овсеца. Милые, добрые люди! Какие тихие, веселые и радушные…
Дома на свободе я стал компоновать картину «Воевода» (по стихам Мицкевича, в переводе Пушкина) и писать портреты родственников и близких, кто мог мне позировать: дядей, теток и двоюродных братьев и сестер. Тонким карандашиком, будучи в гостях, я не раз рисовал кого-нибудь.
– А можно с себя самого? – спросила однажды маменька.
Я взял небольшой картончик для писания своего портрета и увлекся; натурщик я был безответный, портрет вышел очень похож и очень понравился моей матери.
– В этом лице мальчика – ум взрослого, – сказала маменька.
Все родные и знакомые одобряли мой автопортрет и подолгу почему-то останавливались перед ним.
В это время в Чугуев переехала на жительство огромная семья первогильдейского купца Овчинникова. У него было шесть дочерей и четыре сына. Прошли слухи, что Овчинников разорился в Харькове на большой торговле. Однако он занимал огромный дом на Дворянской улице и часто у них были веселые вечера с танцами. Многие из членов семьи были недурные гитаристы, девицы мило пели, и постоянно, особенно когда приезжали кавалеры их из Харькова или соседние помещики, вечера удавались интересные, веселые, оживленные и длились до поздних часов ночи, начавшись иногда с двух часов дня.
Надо признаться, сердце мое было очень задето одною из дочерей, высокою блондинкой Марианной, и из-за нее я терпел самую назойливую привязанность к себе ее меньшого брата. Огромный, добродушный, веселый, краснощекий, он не расставался с гитарой и вместе с ней и ко мне питал платоническую и невыразимую привязанность. Он совершенно не желал расставаться со мною, и, придя с самого утра, он весь день играл на гитаре и пел, не будучи при этом мне в тягость.
Правда, он был огромен, прост, откровенен до святости, иногда назойлив в просьбах, но его нежная любовь ко мне мирила меня с ним, и это чувство заменяло ему деликатность. Ни один интересный вечер или утро в их семье он не мог провести без меня и иногда силой, а силища у него была атлетическая, уволакивал меня к себе. Однако, заметив мою тайную страсть к своей сестре Марианне, он сейчас же выдал ее сестрам, и это меня страшно угнетало и конфузило.
И вот надо было видеть и слышать восторг этого Алкида, когда он увидал мой автопортрет! Нагоготавшись, накричавшись, наизумлявшись без конца перед моим маленьким картончиком, он бросился ко мне, подхватил меня на руки и как полоумный стал бегать со мною по комнатам. Он так сжимал меня в объятиях, что у меня трещали ребра, и я уже не в шутку молил об избавлении. В заключение он осыпал не только меня, но даже и мои руки сочными и яркими поцелуями своих добрых, красивых губ.
Едва-едва успокоившись, он взял гитару и, ухарски покачивая красивой головой, звонко запел свою любимую хохлацкую песенку:
Як би менi не тини,
Та не перетинки,
Но ходив би до дiвчат
Робити дитинки.
После такого сильного восторга я получил и соответствующее огорчение.
Разумеется, мой влюбленный друг, придя домой, не мог не поделиться своим восторгом с семейством и так захлебывался похвалами портрету, что при первой нашей встрече и сестры начали просить меня, чтобы я принес им показать свой портрет, но я решительно отказался.
Однажды, возвратившись откуда-то домой, я узнал, что Овчинников без меня взял со стены портрет мой и унес.
– Как же вы отдали? – укоряю я маменьку. – Ведь вы знаете, что я этого ему никогда не позволил бы.
– Да что же с ним, верзилой, поделаешь? Схватил, поднял над головой, ручищи у него как железо, куда тебе с ним тягаться! И ведь добряк, гогочет как сумасшедший, целует руки. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас назад принесу. Илюша и не узнает…» Уж я ему так пригрозила, я думаю, он сейчас принесет портретик.
Я вскипел страшным негодованием и сейчас же пошел к Овчинниковым.
Вижу: посреди залы большая группа и своих, и гостей разинув рты обступила моего друга, а он, торжественно подняв мой портрет выше всех, поворачивает его во все стороны и с торжеством обводит всех глазами, видя несомненный, даже превзошедший его ожидания успех.
Я, клокочущий негодованием, не отвечая на приветствия милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет у Алкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части.
Это вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего ни видеть, ни слышать.
– Как вы смеете! – почти заплакал Алкид. – Вы не имеете права! Это стыдно!
После мгновения какого-то общего стона я круто повернулся и быстро пошел к двери… Мой друг со слезами и в голосе, и в глазах вошел в такой раж, что, казалось, еще минута – и он убил бы меня на месте; но я быстро, не оглядываясь, почти бежал домой.
Украинское военное поселение
Самая благотворная и полезная для человечества идея, если она вводится правительством в подвластной стране по принуждению, быстро делается божьим наказанием народу.
Так было и с военными поселениями у нас в России. Идеально настроенный Лагарпом, Александр I думал осчастливить свой народ, дав ему новые полезнейшие формы жизни. Он поручил устройство этих новых форм опытным инструкторам. Казалось, осуществится если не рай на земле, то уже наверно – благоденствие края.
Разумеется, по манию царя все делается быстро, без прекословий. Нет ничего невозможного: ефрейторы – народ дрессированный, средства верные – порка непокорных и непонятливых. И вот великие идеи гуманистов попадают с места в карьер на испытание в исполнительные руки Аракчеева.
Крутыми мерами стала осуществляться прививка добрых начал – на казенный счет – «без лести преданным» Аракчеевым. Теория Овена[40 - То есть английского философа и педагога Роберта Оуэна.] – воспитание человеческого характера – быстро фиксировалась шпицрутенами. Потомки вольного казачества закрепощались в муштре. Из поселений вырастало по писаному иго государственного крепостничества. Характер простоватого казака быстро перевоспитывался в будущего каторжанина, воспитывался образцово и множился быстро. Остроги и Сибирь заполнялись беглыми и штрафными солдатами.
«От сумы да от тюрьмы не зарекайся», – философствовал народ.
В то время, в начале пятидесятых годов прошлого столетия, крепостные люди произвели уже много бунтов и расправ со своими господами. Яша Бочаров, будучи юнкером, только что вернулся тогда из окрестностей Елисаветграда – Умани, куда их отряд был командирован на усмирение крепостных князя Лопухина. Он рассказывал, какие западни изобретали на них хохлы-крепаки и как сам он однажды попал к ним в землянку в лесу. В таких тайниках они расправлялись с господами и даже с вооруженными офицерами. На его счастье, патруль в лесу наткнулся на эту землянку и его отбили свои солдаты.
И ружья, и заостренные косы, и вилы – все пускали в ход выведенные из терпения хлеборобы.
Надо признаться, что мы тогда соприкасались больше со средою господ, видели чаще только показную сторону поселенных улучшений жизни и, соответственно помещичьим взглядам, были довольны успехом усмирявших войск.
В то время Чугуев начал сильно процветать и богатеть. Летом на царские маневры съезжалось туда много господ не только из столиц, больших ближайших городов, но также и из помещичьих имений, где каждый неограниченный повелитель своих деревень, иногда многих тысяч душ, устраивался дома по-царски, а в городе занимал лучшие дома под постоянные квартиры, задавал пиры и, следовательно, давал шибко торговать купцам самых лучших магазинов. И лавки наши все увеличивались в числе и щеголяли лучшими продуктами.
Мастерские всех родов, и статские, и военные, были завалены работой. Ночи напролет многие места Чугуева и его окрестности оглашались звуками музыки бальных оркестров, большею частью в садах на танцевальных «ротондах».
Семейные помещики, щедро облагодетельствованные дарами прекрасного пола, привозили в Чугуев целые цветники «неземных созданий». Устраивались parties de plaisir[41 - Увеселительные прогулки (фр.).] и партии более серьезного жизненного характера: военные всегда храбро и быстро женятся.
Да, в Чугуеве жилось весело: даже в самых бедных и многочисленных (как же иначе?) помещичьих дворнях часто слышалась повторяемая крепостными на разные лады пословица: «Хоть есть нечего, так жить весело».
Лично моя жизнь этого времени была также самая веселая. Подростком, за компанию с сестрою, я попадал на балы и вечера молодежи, на маевки в самое цветущее время весны в Староверском лесу, с хорами трубачей. Дикий терн, дички груши, черешни и вишни – все сады бесконечного южного склона от Осиновки и Пристена до самых «Матерей», облитые, как молоком, обильными букетами цветов, – все улыбалось нашим весельям в складчину.
Нашим излюбленным местом был Староверский лес по южному склону к Донцу. Теперь здесь вокзал железной дороги, дубовый и кленовый лес вырублен, и тех мест более узнать нельзя.