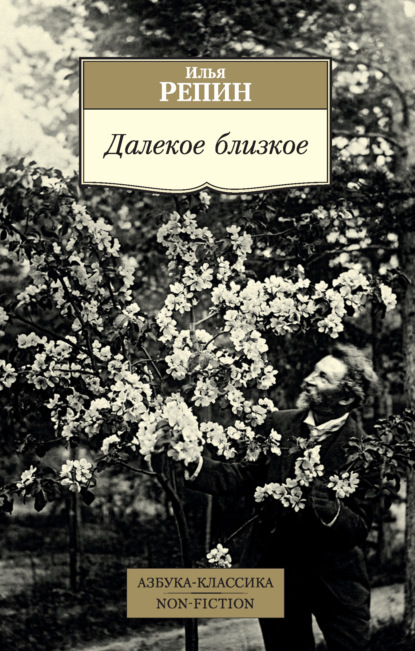По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое близкое
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Аминь, – отвечает маменька.
Входит бабушка Егупьевна. Она всегда входит, сотворив молитву. Так же входили и все осиновцы, так же входили и горожане, только прочие творили молитву еще за дверью. Если какая-нибудь девочка или кто по делу, то, после того как в ответ услышится слово «аминь», говорят (девочка тонким певучим голоском): «Тетенька, выйдите-ка сюда!»
Вот бабушка Егупьевна прежде всего становится перед образами. Сотворив несколько поясных поклонов, крестясь большим двуперстным крестом, она обращается в сторону маменьки и начинает величать всю семью, сначала от старших. Так же входили и странница Анюта, и Химушка, и тетка Палага, и все соседи и знакомые.
– Здравствуйте, Ефим Васильевич, – (хотя бы его и не было дома), – Татьяна Степановна, Устинья Ефимовна, Илья Ефимович, Иван Ефимович, Авдотья Тимофеевна, – (Доняшка-работница). – Живы ли все, здоровы? Как вас Господь милует?
– Здравствуйте, здравствуйте, Егупьевна, – говорит маменька.
А мы, присутствующие дети, должны были подойти к бабушке «ручку бить». То есть бабушка протянет нам руку ладонью вверх, а нам по руке ее надо было шлепнуть слегка своей ладонью и затем поднести к губам и поцеловать бабушкину руку. Такой же этикет соблюдался со всеми приходящими старшими и родственниками.
Скоро Егупьевна с маменькой усаживались в сторонку и заводили свой таинственный разговор.
– Что ты! Что ты, Таня! Так он в солдатах развратился?! Трубчищу куре!.. – Егупьевна в большом непритворном ужасе всплеснула руками, открыла всегда опущенное, закутанное в белую косынку лицо; показались огромные светлые глаза на бледном лице, и даже сверкнули слезы на глазах. – Ай-ай-ай, страсть-то ж какая! Это надо его уговорить, надо помолиться за него… Ужли ж он о своей душе не жалеет?
Все это говорилось таинственно и так выразительно, что и у маменьки капали слезы, и я едва держался, чтобы не заплакать…
– Ты знаешь, Таня, что за эту мерзость ему буде на том свете? С кем он осудится!..
Маменька только тяжело вздыхала.
– А что будет, бабушка? – невольно спросил я.
– Ну, поди, мальчик, ты еще мал, чтобы это знать, после узнаешь. Молись за твоего отца, чтобы Бог его избавил от этого греха, чтобы он свою трубчищу бросил курить.
Бабушка и чай считала грехом, и с нами ей нельзя было обедать: мы «суетные». Ей надо было наливать в особую чашку, из которой никто не ел, и ложку так и держали только для староверов. Нашими ложками им нельзя есть: грех.
Я вспомнил, что уже несколько дней не молился в своем местечке; надо непременно пойти и хорошенько помолиться: может быть, и я буду святым? И мне как-то страшно стало от этой мысли.
Егупьевна стала рассказывать маменьке про «Матерей». «Матерями» назывался монастырь, где жили староверские девы и женщины. Мы туда раз ходили с Доняшкой в воскресенье. Это далеко, в Пристене. Как у них чисто, хорошо; пахнет душистою травой; а кругом образа – образа старинные, темные лики, страшные. Прямо против входа – большой высокий иконостас. Это их церковь; по стенам скамейки, и на скамейках сидят, когда нет службы, все больше женщины, девочки, а некоторые сидели на полу, на пахучем чоборе и другой траве, разбросанной на полу.
Батеньку недавно опять угнали в солдаты.
Он часто рассказывал, когда был дома, как трудно служить: скомандуют – и тяжелый палаш наголо надо держать в вытянутой руке. Долго-долго, пока не скомандуют другой команды; рука застынет, задеревенеет, а ты стой, не шевельнись; все жилы повытянут…
– А верхом, бывало, в манеже – траверс, ранверс… ломают, ломают! И лупили же! Всех лупили: не брезговали и семейными, и почтенными людьми. Казьмин, бывало, никак не может верхом просто сидеть, отвалясь; все грудь колесом выпрет вперед… а надо сидеть как в стуле. Солдат красивый, видный; полковнику Башкирцеву так хотелось выучить его на ординарца; уж его и так и этак… да ведь как били, боже мой милостивый! Посадят, бывало, лицом к хвосту лошади; лошади белые, подъемные, вершков восьми; мужчина он огромный, как шлепнется… Уж и поиздевались же над ним! А ведь отец семейства: три сына, два женатых. Что ты поделаешь! Уж на что какой здоровый, силач, а все в госпитале валялся… Ах, уж и лошадки белые, прости господи, дались нам, знать: долго ли ей запятнаться в сарае? Чуть приляжет, и готово, а поди-ка ототри это желтое пятно! Надо кипятком отпаривать.
Ростки искусства
Без батеньки мы осиротели. Его «угнали» далеко; у нас было и бедно, и скучно, и мне часто хотелось есть. Очень вкусен был черный хлеб с крупной серой солью, но и его давали понемногу.
Мы всё беднели.
О батеньке ни слуху ни духу; солдатом мы его только один раз видели в серой солдатской шинели; он был жалкий, отчужденный от всех. Маменька теперь все плачет и работает разное шитье. Устя, Иванечка и я никак не можем согреться, нас трясет лихорадка. Хотя у нас на всех окнах и дверях прилеплены сверху записочки, что нас «дома нет», но лихорадка не верит и непременно кого-нибудь из нас трясет, а иногда и всех троих вместе. Недавно заезжала тетка Палага Ветчинчиха, и маменька с нею так наплакалась: батеньку с другими солдатами угнали далеко, в Киев, он там служит уже в нестроевых ротах; там же и деверь тетки Палаги; она все знала о солдатах.
С утра мне бывает лучше, и я тогда принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, тряпок и дощечек, и он уже стоит на трех ногах. Как прикручу четвертую ногу, так и примусь за голову, шею я уже вывел и загнул – конь будет «загинастый».
Маменька шьет шубы осиновским бабам, на заячьих мехах, и у нас пахнет мехом; а ночью мы укрываемся большими заячьими, сшитыми вместе (их так и покупают) мехами. Спать под ними даже жарко.
Я подбираю на полу обрезки меха для моего коня; из них делаю уши, гриву, а на хвост мне обещали принести, как только будут подстригать лошадей у дяди Ильи, настоящих волос из лошадиного хвоста.
Мой конь большой, я могу сесть на него верхом; конечно, надо осторожно, чтобы ноги не разъехались: еще не крепко прикручены. Я так люблю лошадей и все гляжу на них, когда вижу их на улице. Из чего бы это сделать такую лошадку, чтобы она была похожа на живую? Кто-то сказал – из воску. Я выпросил у маменьки кусочек воску – на него наматывались нитки. Как хорошо выходит головка лошади из воску! И уши, и ноздри, и глаза – все можно сделать тонкой палочкой; надо только прятать лошадку, чтобы кто не сломал: воск нежный.
К маменьке помощницами поступили две девки-соседки: Пашка Полякова и Ольга Костромитинова. Они так удивлялись моей лошадиной головке и не верили, что это я сам слепил.
Ольгу я не люблю: она высокая-высокая и все смеется, смеется каждому слову. Сейчас, как придет, поднимет меня к самому потолку. Страшно делается, а потом лезет целоваться: «Жених мой, жених!» Ну какой я ей жених? Я начинаю ее бить и царапать даже. А она все гогочет, с каждым словом ее все больше смех разбирает.
А Паша умная и всегда серьезно смотрит, что я делаю. Но вот беда – ноги лошадок никак не могут долго продержаться, чтобы стоять: согнутся и сломаются. Паша принесла мне кусок дроту (проволоки) и посоветовала на проволоках укрепить ножки. Отлично! Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны целых две лошадки. А сестра Устя стала вырезывать из бумаги корову, свинью; я стал вырезывать лошадей, и мы налепливали их на стекла окон.
По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших окон и подолгу рассматривали наших животных.
Я наловчился вырезывать уже быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь; оставлял я бумагу только для гривы и хвоста – кусок и после мелко, вроде волосков, разрезывал и подкручивал ножницами пышные хвосты и гривы у моих «загинастых» лошадей. Усте больше удавались люди: мальчишки, девчонки и бабы в шубах. К нашим окнам так и шли.
Кто ни проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть, над чем это соседи так смеются и на что указывают пальцами. А мы-то хохочем, стараемся и все прибавляем новые вырезки.
И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даже детски простонародна. И Осиновка твердо утаптывала почву перед нашими окнами, засыпая ее шелухой от подсолнухов.
Я вырезывал только лошадей и не завидовал Усте, когда она очень хорошо стала вырезывать и коров, и свиней, и кур, и уток, и даже индюков, чем особенно восхищалась наша публика, увидев под носом индюка его атрибуты.
На рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата, сироту Троньку (Трофим). Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного, портного для «господ военных».
Троша принес с собою рисунки, изображающие Полкана[27 - Полкан – герой русских былин, богатырь с песьей головой.], и я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название: «Полкан» – и свою фамилию: Трофим Чаплыгин. У него была огромная голова, коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, все слушали: «Струб-металл – Запечная Искра», «Зеленый» и особенно про царя Самосуда, как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорил: «Песня – правда, а сказка – брехня», а другой: «Сказка – правда, а песня – брехня». Долго препирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя Самосуда. И царь Самосуд, усадив их по правую и левую руку, длинной историей объяснил им, кто прав.
Трофим и при нас вдруг нарисовал еще Полкана: чирк, чирк, все точками и черточками; потом аккуратно складывал вчетверо своих Полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что и Тронька, наш двоюродный, – сам Полкан; особенно его большой лоб и черные глазки, глубоко подо лбом, и короткие волосы, щеткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им Полканов; каждый Полкан держал булаву. На другой день Трофим из плоской коробочки, завернутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей; аптекарь принес Трофиму краски и кисточку. В аптеке краски сами делают. Трофим знал названия всем этим краскам: желтая – гумми-гуд, синяя – лазурь, красная – бакан и черная – тушь.
Красок я еще никогда не видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать красками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточку из бумажки, поставил стакан с водою на стол, и мы взяли Устину азбуку, чтобы ее некрашеные картинки он мог раскрашивать красками. Первая картинка – арбуз – вдруг на наших глазах превратилась в живую; то, что было обозначено на ней едва черной чертой, Трофим крыл зелеными полосками, и арбуз зарябил нам в глаза живым цветом; мы рты разинули. Но вот было чудо, когда срезанную половину второго арбузика Трофим раскрасил красной краской так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз; и когда красная высохла, он тонкой кисточкой сделал по красной мякоти кое-где черные семечки – чудо! чудо!
Быстро пролетали эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой.
Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый как мышь от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь, и долго шла, не могли остановить, и я совсем побледнел. Помню, как кровь моя студнем застыла в глубокой тарелке, как мне мочили холодной водой затылок и прикладывали к шее большой железный ключ от погреба; надо было еще поднимать высоко правую руку: кровь текла из левой ноздри. Оправился я кое-как только дня через три. Кровь перестала идти, и я сейчас же – за красочки. Но недолго я наслаждался: вдруг, к моему ужасу, большая красная капля капнула на мой рисунок, другая, третья, и опять полила, полила. Ах, какая досада! Опять надо было сидеть смирно, поднявши голову, и правую руку держать вверх. Тоска сидеть в таком положении, и я чувствовал себя совсем больным. Сначала раздражался капризно, а потом уж спокойно лежал на лежанке и почувствовал через несколько дней, что не могу держать голову: она клонилась на грудь или на плечо; также и спина моя не держалась – сидеть я не мог, кротко лежал и уже равнодушно слушал, как бабы-соседки, приходившие мерить свои шубы, безнадежно махали на меня рукой и откровенно советовали заказывать мне гробик и шить «смертённую» рубашку и саван.
– Не жилец он у вас, Степановна: посмотрите, какие у него ушки бледные и носик совсем завострился. Помрет, накажи меня Бог, помрет. Это верная примета, когда носик завострится, это уже не к житью. Вот у Субочевых так же мальчик хворал – тот с перепугу. И переполох ему выливали, и заговаривали. И что же? Что ни делали – умёр.
Я посмотрел на свои руки и удивился, какие они белые, бледные, с синими жилками, и все косточки и суставчики отчетливо видны были на тонких пальцах, а ногти отросли длинные, белые.
И вот лежу я почти неподвижно и отлично слышу со своей лежанки всякое слово, даже шепот приходящих и уходящих баб, даже из кухни все слышно, даже когда шепчут.
Прибежала Химушка Крицына. Обращается к Доняшке, нашей работнице, молодой еще девочке из семьи соседей Сапелкиных:
– А что, еще не умёр ваш Илюнька? Жив еще? А сказали еще вчера, что кончается: носик завострился… Алдаким Шавернев называется сделать ему гробик, пока мы бы его и обшили позументиком. А можно взглянуть на Илюньку? – спрашивает она и отворяет дверь ко мне.
Мне сделалось так смешно, что я подумал даже показать ей язык, но воздержался.
– Кхи-хи-и, да он еще смеется, смотрите. А ведь краше в гробик кладут! И носик востренький, а и беленький же, как булка! Ну что смеешься? Вот умрешь, так не будешь смеяться! Снесем мы тебя далеко и закопаем… А можно с него мерку снять? Ну, протяни ножки, мы тебе хорошенький гробик сделаем, красиво обошьем, тебе хорошо будет лежать… А тебе чего бояться умирать? До семи лет младенец – отрастут крылышки, и полетишь прямо в рай; грехов у тебя нет, не то что мы, грешные, тут бьемся-колотимся. По тебе мы и голосить не будем. И за нас, и за своих родителей там будешь Богу молиться.
– А красочки и кисточки там будут? – спрашиваю я, мне жаль стало красок.
– А как же! Весь рай в цветах: там и горицвет, и синее нёбо, и баз, и черемуха – все в цвету; а сколько той розы! И ягоды-вишни кисточками навязаны. А кругом калина, калина…