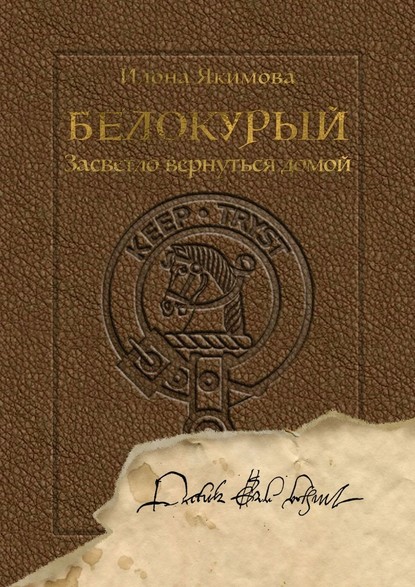По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Засветло вернуться домой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ибо никогда до сего дня не совершил он ничего, наносящего урон королевству Шотландии… Копия статей Босуэлла пришла в Стерлинг вместе с письмами короля Франциска в бумагах для посла де ла Бросса. Королева-мать перечитывала параграфы, не веря глазам своим, и жаркая кровь оскорбления и гнева заливала ее щеки, и холодом охватывало буквально на каждой фразе: а также порочащих ее слухов… мелкий пот в ложбинке спины под сорочкой. Никогда бы не поверила, что простая копия его письма может так взволновать, возмутить, испугать… стало быть, он и не намерен униженно просить прощения? Напротив, Патрик Хепберн, граф Босуэлл, желает личной войны с той, кого когда-то так пламенно обожал, если была хоть капля правды в его уверениях, и для этой войны, к сожалению, есть у него безотказное оружие. Видно, сам дьявол тогда водил рукой Мари, окуная перо в чернильницу. Если он обнародует обещание выйти за него замуж, скандал поднимется ужасающий, регент клыками уцепится за эту возможность навсегда скинуть ее на сторону… почему ж Патрик не показал само письмо? Королева не знала. Этот страх сводил ее с ума, одновременно подогревая ярость Гизов, бурлящую в крови. Порой особенно невыносимо быть женщиной в этом мире мужчин, и королева за неимением автора статей обратилась к его родственнику и в недавнем прошлом другу:
– Хантли, что это?!
Джордж Гордон с уходом Босуэлла потерял столь ценную боевую единицу, что готов был простить ему даже подзабывшийся за последними событиями скандал с Анабеллой.
– Полагаю, небольшой жест внимания от мужчины, вас до сих пор любящего, – хмыкнул канцлер королевства. И поправился, увидав темный взор госпожи. – Что, впрочем, не отменяет его наглости, конечно.
Англия, Лондон, Уайтхолл, август 1546
Англия, милая Англия, да видал я в гробу твои поля, пастбища и леса, чащи твои и стогны. Рассеянно обозревал Патрик Хепберн открывающиеся ему в пути пейзажи сельской глуши, каковую с куда большим удовольствием посетил бы во главе рейда.
Благодаря паспорту, присланному от Хартфорда, пятеро шотландцев добрались до столицы довольно быстро, почти без происшествий. В те же числа, в начале августа, Генрих Тюдор подписал и паспорта для шотландских послов, но Босуэлл разминулся с ними в пути. Он так долго откладывал свой въезд в столицу, прозябая на севере, бесславно болтаясь на Неворсе, потому что хорошо представлял, какая встреча ждет его в Уайтхолле. Не зря же Белокурый водил за нос своих английских нанимателей вот уж пятнадцать лет кряду – приближалась расплата.
И он не ошибся.
Расползшаяся туша на троне в глубине зала, под балдахином – каким чертом королю Англии удавалось не только сесть в седло, но лично руководить осадой Булони, выдерживая дневные перегоны, которые не всем молодым по силу? Генриха Тюдора можно и нужно было ненавидеть, но следовало и уважать, как соперника серьезного, достойного по силе, опасного. Теперь опасного вдвойне, ибо он уже тяжко болен, а боль всегда наносит удар, ни с чем не считаясь. Патрик Хепберн выглядел спокойным и равнодушным, как никогда, неторопливо пересекая большой холл дворца под перекрестными взглядами придворных, таким уверенным в себе, таким сильным, мощным – в расцвете зрелой красоты. Но не этого властелина проймешь красотой.
– Свататься приехал? – ядовито спросил король.
Начало, видит Бог, не из лучших. Уж в Лондоне-то давно было известно через Дакра, что Босуэлл не праздно путешествовал – бежал.
– Если то будет угодно Вашему величеству.
– И замок отдашь?
Поди солги Генриху Тюдору. Великолепная память, черная желчь и хищный ум – все, что необходимо хорошему политику. Однако следовало разыграть свою карту до конца:
– Согласно условиям брачного договора, Ваше величество.
Короткая усмешка показалась и погасла на узких губах Генриха. И это лицо, думал Босуэлл, когда-то было прекраснейшим среди всех принцев христианского мира. Годы безжалостны, но пороки еще безжалостней. Генрих тем временем добродушно поманил к себе старинного знакомца, когда же тот подошел, склонил голову, тяжелая лапа в момент легла на загривок Босуэлла, воистину лапа уэльского дракона, обремененная перстнями – они вонзились в кожу едва ли не до крови… и рука Тюдора нагнула ниже, к себе, выю шотландца:
– Ну, вот теперь и послужишь, – вполголоса, усмехнувшись, молвил король.
«За каждое пенни, красавец». Воистину, тогда Генрих взял с него за всё – уплаченное, обещанное, забранное на рейде. И он снова служил – но более словом, чем делом, он снова выворачивался наизнанку для лжи, для выживания, для азарта продаваться, не отдаваясь ничем своим. Он снова вел игру, за которую мог бы поплатиться всерьез, не будь Генрих Тюдор так заинтересован в мятежных лордах Шотландии при своем дворе, в особенности теперь, когда на будущий год готовился рейд огромнейший, крупный, кровавый, раз навсегда должный прекратить сопротивление шотландцев. Комнаты во дворце – какое там? Пенсион – с чего вдруг? Одни обещания, и ни пенни вперед отныне – король Генрих превосходно изучил старинного союзника, и не просто держал того на коротком поводке, но на строгом ошейнике, подергивая периодически за ремень, чтоб подзадохнулся и укротился, кобель. Третий граф Босуэлл был снова в долгах – настолько глубоко, как никогда раньше, ибо кружение при дворе, выжидание добычи, падали, требовало расходов, и немалых – на внешний вид, на выезд, на содержание слуг. Леннокс, муж племянницы Тюдора, пустышка Леннокс, которого он играючи, легко обошел в Стерлинге, теперь глумился над ним, говоря, что желает служить королю не иначе, как в паре в графом Босуэллом – с Босуэллом, нищим, как церковная мышь, вконец обносившимся. Тряпки и мишура – никогда они не значили так много и не стоили так дорого, как в ту осень, когда он вынужден был тратить на них последнее, и снова просить, и снова почтительно склоняться. Патрик Хепберн полностью отвык склоняться пред кем бы то ни было, но фантомной болью ощущал на загривке хватку старого дьявола Гарри.
– Вот что, – велел король, – уж ты не ври мне, что ваши пираты вставали на Лейтский рейд без твоего ведома.
Босуэлл невозмутимо молчал, ожидая продолжения фразы.
– Так пусть и далее не оставляют усилий – мне надобно, чтоб было за что зацепиться в нарушении мира с Нижними землями.
Карл Габсбург был союзником своего бывшего дядюшки, но Тюдор никогда не забывал подложить ему свинью при удобном случае – вот как теперь, в воздаяние за вялость императора при объявлении войны Шотландии.
– Все, что в моих силах, – отвечал Белокурый.
«Лейтская блудница» выгружалась теперь в английском Бервике, охотясь на голландцев и французов в Канале. Приход с этой стороны весьма поддержал Белокурого в первый год в Лондоне.
Майкл Бэлфур вернулся из Франции ни с чем.
Зато Парламент в Эдинбурге вынес на рассмотрение обвинение бывшего графа Босуэлла в государственной измене.
Тауэр, Лондон, Англия
Англия, Лондон, осень 1546
В стенах города он жить не смог.
Лондон был грязен – так утверждал не только брезгливый Патрик Хепберн, но в этом сходились также и европейские путешественники. В Ладгейте, к примеру, Флит был завален нечистотами до такой степени, что и течение реки порой прекращалось. Также Лондон был шумен – граф удивлялся, как возросло многоголосие улиц с тридцатых годов, когда он впервые оказался в английской столице, удивлялся до той поры, пока не взял в толк, что в прежние времена жил при короле в Хэмптон-Корте или в Уайтхолле, не в грачовнике Сити. Колокола, уличные торговцы, глашатаи, воры, проститутки, бродяги, певцы баллад, фокусники… Утро начиналось с «в чем у вас нужда, купите у меня?!» под самыми окнами и Хэмиш МакГиллан привычно выливал на голову подошедшему содержимое ночного горшка. Затем принимались вопить молочницы и разносчики свежего хлеба, копченой рыбы и сыра, и в эту сумятицу звуков вплетался первый грохот тележных колес, стук копыт. Потом улица наполнялась гомоном подмастерьев и разнорабочего люда и не смолкала до вечернего звона в церквах. Когда же раздавались они, колокола Сент-Мэри-ле-Боу, а затем вступали звонари на Сент-Мартин, Сент-Лоренс, Сент-Брайд – трактиры пустели, подмастерья и ученики заканчивали работу, гасли свечи, городские ворота Лондона запирались на засов.
Снимая комнаты в частном доме или на постоялом дворе, Босуэлл принужден был терпеть соседство с теми классами общества, которые вызывали в нем мало симпатии, особенно ввиду их английской природы – и он мерял покои от стены к стене шагами, как волк, заточенный в клетку, когда не бывал занят при дворе. Лишенный возможности быть деятельным, а также – своей библиотеки, граф ощущал спазмы ума не меньшие, чем ощущал бы боль в онемевшей руке, и становился мрачен и груб с кинсменами. Испорченный в Венеции желудок теперь диктовал умеренность в питье, стало быть, забыться этим способом возможности не представлялось, и к вечеру он был равно трезв и зол, и вечер угасал под аккомпанемент дурнейшей музыки во дворе дома и какой-нибудь «Жалобы девицы на тоску по другу постельному Или не хочу и не буду больше спать я одна» – и после во тьме, до часа ночного сторожа, шныряли только грабители, расхитители добра, гулящие девки. Под этот гвалт он смежал веки за пологом постели – грубое белье с чужим запахом – и лежал неподвижно долгие часы без сна.
Словом, Лондон был уже не тот, что во времена его юности.
Возможно, дело было в том, что и юность его давно прошла.
Сент-Джайлс-в-полях, тихий приход, ровно на полпути от Сити и Тауэра до Вестминстера… так и не получивший приглашения жить при дворе, граф Босуэлл снял здесь дом с небольшим садом, предусмотрительно выбрав возможность приходить к себе и покидать жилище, оставаясь незамеченным соседями – ближайшие особняки были и расположены в отдалении, и скрыты зеленью. Два этажа, более чем достаточные для шестерых, если бы только к нему под крыло тут же не начали стекаться все, ущемленные регентом, королевой-матерью, преследованиями протестантов за веру… с глубокой самоиронией Патрик Хепберн внезапно обнаружил себя любимцем и светочем недовольных – роль, сколь прельстительная, столь и опасная, не говоря уже о расходах. Сент-Джайлс стал его третьим и последним приютом за все годы английского изгнания. Какое-то время он прожил вблизи Вестминстерского аббатства, зрелище мертвых английских королей весьма радовало глаз, но этой утехи хватило ненадолго. Одно дело, когда навещаешь Лондон тайком от кузена Джейми, чтобы развлечься, продаться и досадить, отомстить хотя бы намерением, и совсем другое, когда тебе уже тридцать пять, ты снова потерял все, что имел, и только бешеное жизнелюбие и железная воля держат в твоем внутреннем взоре некий, весьма неясный образ будущего.
Какого будущего, когда оно случится с ним? Он не знал.
Тяжело пережить только первую зиму, первую весну в изгнании – время волочится, будто тело Гектора за колесницей Ахилла. В отличие от Венеции, в Лондоне не было горячего, страстного нетерпения вернуться и возместить всем и всё, теперь он знал, что придется ждать долго, и был готов к тому – по крайней мере, рассудком. Он дума, много думал, ибо времени хватало среди всех дрязг двора Тюдора, среди всей потребной для выживания изворотливости. Он должен был понять, куда двигаться дальше, с какой страной и какой короной отныне связать судьбу. В горьком потоке дней отщепенца вначале есть мгновение, в котором отмирает часть души неверующей. Неверующей в то, что ты снова выброшен на берег жизни, разбит кораблекрушением, по своей воле или по воле фортуны, но вот – лежишь, не в силах пошевелиться, встать и идти. И какой святой, кроме грешного флорентийца, поднял бы его с места теперь? Но рукопись осталась подарком у Брихина, и тосканские слова жили только в памяти, в ней одной. Пожалуй, мессер Макиавелли снова был бы им недоволен за скверно выученный урок. Слишком много ошибок, слишком много человеческого в отношении и к врагам, и к друзьям.
Он много думал и пришел к странному выводу – сам характер его противен идее преуспеяния при дворе. Но на середине четвертого десятка лет менять норов если не глупо, то невозможно, как невозможно переменить соотношение гуморов-жидкостей в своем теле, которое нрав и определяет. Для этого пришлось бы отказаться от тех страстей, что составляли и радость, и проклятие его существования – любовь к опасности, умение доверяться Фортуне, тяга к женскому телу, доходящая до безрассудства. Отказаться от части себя, чтобы стать – кем? И какую цель имеют все его действия при дворе Генриха Тюдора, кроме как выжидать? Ему ведь теперь и торговать-то в полном смысле нечем, кроме… кроме возможности своей славой, своей властью над душами поднять мятеж на Спорных землях и открыть границу в том месте, где с четырнадцатого века она прочно замкнута на ключ Караульни. Он вовремя унес ноги, если говорить о собственной безопасности, но игра еще не развернута по-настоящему – теперь, когда во Франции есть не только интерес к Старинному альянсу, но и принц, которого можно помолвить с девчонкой Стюарт. Генрих Тюдор сейчас усилит давление, сколько сможет, сколько хватит гонора у разлагающегося заживо короля, о чем, впрочем, запрещено вслух упоминать при дворе. Смерть – персона нон-грата для Генриха, он всю жизнь слишком боялся малейшего ее приближения, чтоб под конец жизни признать, что это, наконец, произойдет – и с ним тоже. Потом на престол взойдет Эдуард, потом… а потом Патрик Хепберн найдет какой-нибудь случай, способ вернуться на родину – и сведет счеты, теперь уже окончательно.
Полночный крик сторожа резко и заунывно вошел в его мысли, нарушая их стройный ход:
Проверь свой засов,
Очаг и свечу,
И спи до утра.
– Томас… – окликнул он и осекся, вспомнив, что Том остался вместо него лежать в Лиддесдейле. – Хэмиш, швырни чем-нибудь в этого сукина сына сторожа, спать мешает…
У него появилась опасная привычка звать мертвецов.
Патрик Хепберн лежал в постели – сна ни в одном глазу.
Странное чувство, он лежал в постели один.
Фортуна при дворе была расплывчата и странна. Владыка Англии и впрямь подолгу общался с ним, частно, близко, доверительно, в паре с Ленноксом или отдельно от него, но чести такого общения Босуэлл предпочел бы любую повинность полегче. Король вцеплялся в него, как собака в крысу, по разным поводам и под разными предлогами, и тряс, тряс, с одной только страстью – вытрясти правдивый рассказ о положении дел в Приграничье, о том, кто за кого стоит и кто за кого выступит при случае, о том, что до недавнего времени происходило при дворе, и до какой степени погружены в это дело французы, о том, каковы планы Аррана на альянс с Кристианом Датским и ожидается ли оттуда подмога. К концу дня в Уйатхолле Белокурый ощущал подлинно птичью мозоль на языке, помогающую мусолить и проталкивать в желудок – или исторгать из него – зерна красноречия. Никогда еще он не был так обаятельно лжив, как теперь, когда не имел за душой ни пенни, ни даже сотни рейдеров. Но самый большой интерес короля, конечно, составляли замки Босуэлла – и, разумеется, никто всерьез не предлагал ему руку ни одной из принцесс ни за единый из них. Патрик Хепберн улыбался, клялся в преданности, приносил присягу: все только на словах, не подписав ни единой бумаги, как делал и всегда, но хребтом чуял, что долго так продолжаться не будет.
– Прижмут они нас, ваша милость, – опрометчиво высказался Хэмиш МакГиллан, выражая общие опасения.
– Сам-то понял, что сказал вот сейчас? – спросил его Босуэлл.
– Виноват, ваша милость…
Публичное сомнение в его изворотливости он воспринимал, как прочие мужчины – сомнение в постельной доблести, чем-то равно оскорбительным и немыслимым. И предвкушение опасности, которое так любил, горячило кровь, добавляло блеска глазам. Он ощущал себя девицей на выданье, которую осаждают из-за приданого, только приданым был Хермитейдж.
– Хантли, что это?!
Джордж Гордон с уходом Босуэлла потерял столь ценную боевую единицу, что готов был простить ему даже подзабывшийся за последними событиями скандал с Анабеллой.
– Полагаю, небольшой жест внимания от мужчины, вас до сих пор любящего, – хмыкнул канцлер королевства. И поправился, увидав темный взор госпожи. – Что, впрочем, не отменяет его наглости, конечно.
Англия, Лондон, Уайтхолл, август 1546
Англия, милая Англия, да видал я в гробу твои поля, пастбища и леса, чащи твои и стогны. Рассеянно обозревал Патрик Хепберн открывающиеся ему в пути пейзажи сельской глуши, каковую с куда большим удовольствием посетил бы во главе рейда.
Благодаря паспорту, присланному от Хартфорда, пятеро шотландцев добрались до столицы довольно быстро, почти без происшествий. В те же числа, в начале августа, Генрих Тюдор подписал и паспорта для шотландских послов, но Босуэлл разминулся с ними в пути. Он так долго откладывал свой въезд в столицу, прозябая на севере, бесславно болтаясь на Неворсе, потому что хорошо представлял, какая встреча ждет его в Уайтхолле. Не зря же Белокурый водил за нос своих английских нанимателей вот уж пятнадцать лет кряду – приближалась расплата.
И он не ошибся.
Расползшаяся туша на троне в глубине зала, под балдахином – каким чертом королю Англии удавалось не только сесть в седло, но лично руководить осадой Булони, выдерживая дневные перегоны, которые не всем молодым по силу? Генриха Тюдора можно и нужно было ненавидеть, но следовало и уважать, как соперника серьезного, достойного по силе, опасного. Теперь опасного вдвойне, ибо он уже тяжко болен, а боль всегда наносит удар, ни с чем не считаясь. Патрик Хепберн выглядел спокойным и равнодушным, как никогда, неторопливо пересекая большой холл дворца под перекрестными взглядами придворных, таким уверенным в себе, таким сильным, мощным – в расцвете зрелой красоты. Но не этого властелина проймешь красотой.
– Свататься приехал? – ядовито спросил король.
Начало, видит Бог, не из лучших. Уж в Лондоне-то давно было известно через Дакра, что Босуэлл не праздно путешествовал – бежал.
– Если то будет угодно Вашему величеству.
– И замок отдашь?
Поди солги Генриху Тюдору. Великолепная память, черная желчь и хищный ум – все, что необходимо хорошему политику. Однако следовало разыграть свою карту до конца:
– Согласно условиям брачного договора, Ваше величество.
Короткая усмешка показалась и погасла на узких губах Генриха. И это лицо, думал Босуэлл, когда-то было прекраснейшим среди всех принцев христианского мира. Годы безжалостны, но пороки еще безжалостней. Генрих тем временем добродушно поманил к себе старинного знакомца, когда же тот подошел, склонил голову, тяжелая лапа в момент легла на загривок Босуэлла, воистину лапа уэльского дракона, обремененная перстнями – они вонзились в кожу едва ли не до крови… и рука Тюдора нагнула ниже, к себе, выю шотландца:
– Ну, вот теперь и послужишь, – вполголоса, усмехнувшись, молвил король.
«За каждое пенни, красавец». Воистину, тогда Генрих взял с него за всё – уплаченное, обещанное, забранное на рейде. И он снова служил – но более словом, чем делом, он снова выворачивался наизнанку для лжи, для выживания, для азарта продаваться, не отдаваясь ничем своим. Он снова вел игру, за которую мог бы поплатиться всерьез, не будь Генрих Тюдор так заинтересован в мятежных лордах Шотландии при своем дворе, в особенности теперь, когда на будущий год готовился рейд огромнейший, крупный, кровавый, раз навсегда должный прекратить сопротивление шотландцев. Комнаты во дворце – какое там? Пенсион – с чего вдруг? Одни обещания, и ни пенни вперед отныне – король Генрих превосходно изучил старинного союзника, и не просто держал того на коротком поводке, но на строгом ошейнике, подергивая периодически за ремень, чтоб подзадохнулся и укротился, кобель. Третий граф Босуэлл был снова в долгах – настолько глубоко, как никогда раньше, ибо кружение при дворе, выжидание добычи, падали, требовало расходов, и немалых – на внешний вид, на выезд, на содержание слуг. Леннокс, муж племянницы Тюдора, пустышка Леннокс, которого он играючи, легко обошел в Стерлинге, теперь глумился над ним, говоря, что желает служить королю не иначе, как в паре в графом Босуэллом – с Босуэллом, нищим, как церковная мышь, вконец обносившимся. Тряпки и мишура – никогда они не значили так много и не стоили так дорого, как в ту осень, когда он вынужден был тратить на них последнее, и снова просить, и снова почтительно склоняться. Патрик Хепберн полностью отвык склоняться пред кем бы то ни было, но фантомной болью ощущал на загривке хватку старого дьявола Гарри.
– Вот что, – велел король, – уж ты не ври мне, что ваши пираты вставали на Лейтский рейд без твоего ведома.
Босуэлл невозмутимо молчал, ожидая продолжения фразы.
– Так пусть и далее не оставляют усилий – мне надобно, чтоб было за что зацепиться в нарушении мира с Нижними землями.
Карл Габсбург был союзником своего бывшего дядюшки, но Тюдор никогда не забывал подложить ему свинью при удобном случае – вот как теперь, в воздаяние за вялость императора при объявлении войны Шотландии.
– Все, что в моих силах, – отвечал Белокурый.
«Лейтская блудница» выгружалась теперь в английском Бервике, охотясь на голландцев и французов в Канале. Приход с этой стороны весьма поддержал Белокурого в первый год в Лондоне.
Майкл Бэлфур вернулся из Франции ни с чем.
Зато Парламент в Эдинбурге вынес на рассмотрение обвинение бывшего графа Босуэлла в государственной измене.
Тауэр, Лондон, Англия
Англия, Лондон, осень 1546
В стенах города он жить не смог.
Лондон был грязен – так утверждал не только брезгливый Патрик Хепберн, но в этом сходились также и европейские путешественники. В Ладгейте, к примеру, Флит был завален нечистотами до такой степени, что и течение реки порой прекращалось. Также Лондон был шумен – граф удивлялся, как возросло многоголосие улиц с тридцатых годов, когда он впервые оказался в английской столице, удивлялся до той поры, пока не взял в толк, что в прежние времена жил при короле в Хэмптон-Корте или в Уайтхолле, не в грачовнике Сити. Колокола, уличные торговцы, глашатаи, воры, проститутки, бродяги, певцы баллад, фокусники… Утро начиналось с «в чем у вас нужда, купите у меня?!» под самыми окнами и Хэмиш МакГиллан привычно выливал на голову подошедшему содержимое ночного горшка. Затем принимались вопить молочницы и разносчики свежего хлеба, копченой рыбы и сыра, и в эту сумятицу звуков вплетался первый грохот тележных колес, стук копыт. Потом улица наполнялась гомоном подмастерьев и разнорабочего люда и не смолкала до вечернего звона в церквах. Когда же раздавались они, колокола Сент-Мэри-ле-Боу, а затем вступали звонари на Сент-Мартин, Сент-Лоренс, Сент-Брайд – трактиры пустели, подмастерья и ученики заканчивали работу, гасли свечи, городские ворота Лондона запирались на засов.
Снимая комнаты в частном доме или на постоялом дворе, Босуэлл принужден был терпеть соседство с теми классами общества, которые вызывали в нем мало симпатии, особенно ввиду их английской природы – и он мерял покои от стены к стене шагами, как волк, заточенный в клетку, когда не бывал занят при дворе. Лишенный возможности быть деятельным, а также – своей библиотеки, граф ощущал спазмы ума не меньшие, чем ощущал бы боль в онемевшей руке, и становился мрачен и груб с кинсменами. Испорченный в Венеции желудок теперь диктовал умеренность в питье, стало быть, забыться этим способом возможности не представлялось, и к вечеру он был равно трезв и зол, и вечер угасал под аккомпанемент дурнейшей музыки во дворе дома и какой-нибудь «Жалобы девицы на тоску по другу постельному Или не хочу и не буду больше спать я одна» – и после во тьме, до часа ночного сторожа, шныряли только грабители, расхитители добра, гулящие девки. Под этот гвалт он смежал веки за пологом постели – грубое белье с чужим запахом – и лежал неподвижно долгие часы без сна.
Словом, Лондон был уже не тот, что во времена его юности.
Возможно, дело было в том, что и юность его давно прошла.
Сент-Джайлс-в-полях, тихий приход, ровно на полпути от Сити и Тауэра до Вестминстера… так и не получивший приглашения жить при дворе, граф Босуэлл снял здесь дом с небольшим садом, предусмотрительно выбрав возможность приходить к себе и покидать жилище, оставаясь незамеченным соседями – ближайшие особняки были и расположены в отдалении, и скрыты зеленью. Два этажа, более чем достаточные для шестерых, если бы только к нему под крыло тут же не начали стекаться все, ущемленные регентом, королевой-матерью, преследованиями протестантов за веру… с глубокой самоиронией Патрик Хепберн внезапно обнаружил себя любимцем и светочем недовольных – роль, сколь прельстительная, столь и опасная, не говоря уже о расходах. Сент-Джайлс стал его третьим и последним приютом за все годы английского изгнания. Какое-то время он прожил вблизи Вестминстерского аббатства, зрелище мертвых английских королей весьма радовало глаз, но этой утехи хватило ненадолго. Одно дело, когда навещаешь Лондон тайком от кузена Джейми, чтобы развлечься, продаться и досадить, отомстить хотя бы намерением, и совсем другое, когда тебе уже тридцать пять, ты снова потерял все, что имел, и только бешеное жизнелюбие и железная воля держат в твоем внутреннем взоре некий, весьма неясный образ будущего.
Какого будущего, когда оно случится с ним? Он не знал.
Тяжело пережить только первую зиму, первую весну в изгнании – время волочится, будто тело Гектора за колесницей Ахилла. В отличие от Венеции, в Лондоне не было горячего, страстного нетерпения вернуться и возместить всем и всё, теперь он знал, что придется ждать долго, и был готов к тому – по крайней мере, рассудком. Он дума, много думал, ибо времени хватало среди всех дрязг двора Тюдора, среди всей потребной для выживания изворотливости. Он должен был понять, куда двигаться дальше, с какой страной и какой короной отныне связать судьбу. В горьком потоке дней отщепенца вначале есть мгновение, в котором отмирает часть души неверующей. Неверующей в то, что ты снова выброшен на берег жизни, разбит кораблекрушением, по своей воле или по воле фортуны, но вот – лежишь, не в силах пошевелиться, встать и идти. И какой святой, кроме грешного флорентийца, поднял бы его с места теперь? Но рукопись осталась подарком у Брихина, и тосканские слова жили только в памяти, в ней одной. Пожалуй, мессер Макиавелли снова был бы им недоволен за скверно выученный урок. Слишком много ошибок, слишком много человеческого в отношении и к врагам, и к друзьям.
Он много думал и пришел к странному выводу – сам характер его противен идее преуспеяния при дворе. Но на середине четвертого десятка лет менять норов если не глупо, то невозможно, как невозможно переменить соотношение гуморов-жидкостей в своем теле, которое нрав и определяет. Для этого пришлось бы отказаться от тех страстей, что составляли и радость, и проклятие его существования – любовь к опасности, умение доверяться Фортуне, тяга к женскому телу, доходящая до безрассудства. Отказаться от части себя, чтобы стать – кем? И какую цель имеют все его действия при дворе Генриха Тюдора, кроме как выжидать? Ему ведь теперь и торговать-то в полном смысле нечем, кроме… кроме возможности своей славой, своей властью над душами поднять мятеж на Спорных землях и открыть границу в том месте, где с четырнадцатого века она прочно замкнута на ключ Караульни. Он вовремя унес ноги, если говорить о собственной безопасности, но игра еще не развернута по-настоящему – теперь, когда во Франции есть не только интерес к Старинному альянсу, но и принц, которого можно помолвить с девчонкой Стюарт. Генрих Тюдор сейчас усилит давление, сколько сможет, сколько хватит гонора у разлагающегося заживо короля, о чем, впрочем, запрещено вслух упоминать при дворе. Смерть – персона нон-грата для Генриха, он всю жизнь слишком боялся малейшего ее приближения, чтоб под конец жизни признать, что это, наконец, произойдет – и с ним тоже. Потом на престол взойдет Эдуард, потом… а потом Патрик Хепберн найдет какой-нибудь случай, способ вернуться на родину – и сведет счеты, теперь уже окончательно.
Полночный крик сторожа резко и заунывно вошел в его мысли, нарушая их стройный ход:
Проверь свой засов,
Очаг и свечу,
И спи до утра.
– Томас… – окликнул он и осекся, вспомнив, что Том остался вместо него лежать в Лиддесдейле. – Хэмиш, швырни чем-нибудь в этого сукина сына сторожа, спать мешает…
У него появилась опасная привычка звать мертвецов.
Патрик Хепберн лежал в постели – сна ни в одном глазу.
Странное чувство, он лежал в постели один.
Фортуна при дворе была расплывчата и странна. Владыка Англии и впрямь подолгу общался с ним, частно, близко, доверительно, в паре с Ленноксом или отдельно от него, но чести такого общения Босуэлл предпочел бы любую повинность полегче. Король вцеплялся в него, как собака в крысу, по разным поводам и под разными предлогами, и тряс, тряс, с одной только страстью – вытрясти правдивый рассказ о положении дел в Приграничье, о том, кто за кого стоит и кто за кого выступит при случае, о том, что до недавнего времени происходило при дворе, и до какой степени погружены в это дело французы, о том, каковы планы Аррана на альянс с Кристианом Датским и ожидается ли оттуда подмога. К концу дня в Уйатхолле Белокурый ощущал подлинно птичью мозоль на языке, помогающую мусолить и проталкивать в желудок – или исторгать из него – зерна красноречия. Никогда еще он не был так обаятельно лжив, как теперь, когда не имел за душой ни пенни, ни даже сотни рейдеров. Но самый большой интерес короля, конечно, составляли замки Босуэлла – и, разумеется, никто всерьез не предлагал ему руку ни одной из принцесс ни за единый из них. Патрик Хепберн улыбался, клялся в преданности, приносил присягу: все только на словах, не подписав ни единой бумаги, как делал и всегда, но хребтом чуял, что долго так продолжаться не будет.
– Прижмут они нас, ваша милость, – опрометчиво высказался Хэмиш МакГиллан, выражая общие опасения.
– Сам-то понял, что сказал вот сейчас? – спросил его Босуэлл.
– Виноват, ваша милость…
Публичное сомнение в его изворотливости он воспринимал, как прочие мужчины – сомнение в постельной доблести, чем-то равно оскорбительным и немыслимым. И предвкушение опасности, которое так любил, горячило кровь, добавляло блеска глазам. Он ощущал себя девицей на выданье, которую осаждают из-за приданого, только приданым был Хермитейдж.