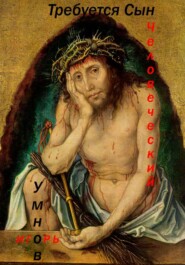По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дух врага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Vive l'Empereur!
Теперь Камышев смотрел им вслед и не мог поверить, что этих едущих бок обок и мило переругивающихся воинов разделяет ровно двести лет исторического времени! И оно по какой-то непонятной причине преломилось здесь, в приднепровской чаще!
Неизвестно, сколько бы ещё поражённый увиденным доброволец простоял на лесной дороге, не появись командир разведчиков. Разъярённый Барков набросился на радиста и повалил того землю.
– Трус! Ты почему не стрелял? – капитан хлестал молодого солдата по щекам. Бить кулаками по лицу он отчего-то не стал. – Это из-за тебя они погибли! Тебя нельзя было с собой брать! Ты дезертировал с поля боя и бросил своих товарищей. По закону военного времени…
Офицер поднялся на ноги и наставил свой ППШ на новобранца, передёрнув для верности затвор.
«Кого на войне мне следует бояться больше: живых или мёртвых; своих или врагов?» – будучи обескураженным, Камышев не пытался сопротивляться.
Барков медлил.
– Они не живые, товарищ командир, – радист под дулом автомата отполз к ближайшему дереву, где почувствовал себя не таким уязвимым, как на земле. – Это мертвецы, понимаете? Они давно были убиты в этом лесу. Помните, пленный танкист сказал: «Тот, кто давно погиб в неравной схватке, но чей дух сражается с врагом и по сей день»? Я ещё предположил, что это из Гёте. Но это другое, товарищ капитан.
Камышев ещё долго и сбивчиво что-то говорил про заколдованный лес, в котором нет электричества, рассказал, что случилось на хуторе, про свой оберег, про то, как потерял очки, но стал видеть гораздо лучше, про двух всадников на дороге времён польской Смуты и Отечественной войны 1812 года.
– Это они истребили немецкий танковый батальон, а затем напали на нас. Пленный, которого привёл Чингис, был их дозорным. «Последний мёртвый враг станет нам братом и, приговорённый жить вечно, выйдет в дозор», – последние слова радист процитировал на немецком, как это сделал Гюнтер Кригер.
«Ещё один вслед за Дьяковым и Бабенко сошёл с ума на этой войне», – заключил Барков и опустил автомат. Как бы там ни было, а новобранец прав, фашистский танковый батальон был уничтожен. И для страны это стоило даже больше, чем жизни трёх неизвестных ей разведчиков.
– Здравствуй, служивый, – услышал за спиной капитан и обернулся. Боковым зрением он успел заметить, как Камышев вновь схватился за грудь, изобразив на лице гримасу боли.
На лесной дороге, откуда ни возьмись, стояла подвода, запряжённая старой измученной лошадью. В телеге с пыльными мешками притаился мужичок в кожанке и в фуражке на голове с красной звездой.
– Садись, подвезу. Устал, небось, ногами топать, – предложил возчик, трогая вожжи.
Барков на ходу запрыгнул на телегу. Камышев, несмотря на обжигающую боль в груди, последовал за своим командиром.
– Они меня не видят, товарищ капитан, – прошептал он разведчику, не отнимая руки от пылающего оберега.
– Куда едем? – спросил Барков у мужичка в кожанке, внимательно поглядывая на перекинутый через его плечо маузер в кобуре.
– К своим, – односложно ответил тот.
– И я к своим, – улыбнулся разведчик. – Только Красная Армия, она неделю как на другом берегу. Сам-то ты точно свой или, может, фашист переодетый?
– И не фашист, и не анархист, – растянул слова возчик. – Я самый настоящий большевик. Антонюк – моя фамилия, уполномоченный Реввоенсоветом. Хлеб для Красной Армии заготовляю.
– Интендант, стало быть, – понимающе закивал Барков. – К какой армии прикомандирован?
– В деревнях хлеба полно, – невпопад заговорил мужичок в кожанке, игнорируя прямой вопрос разведчика. – А в Петрограде голодают, очень ждут хлеба, а кулаки и подкулачники по амбарам прячут. Но мы с ребятами, знаем, как хлеб искать. Кое-кого и в расход пустили, не без этого.
Барков обернулся к сидящему на самом краю телеги Камышеву, который протянул командиру ладонь, с давно истлевшим хлебным зерном.
– Товарищ Ленин ведь, как говорит? Земля крестьянам. Это верно, – продолжал докладывать уполномоченный Антонюк. – Только как же Красная Армия и пролетариат без хлебушка будут жить? Мы крестьянам – землю, а они нам, стало быть, – хлебушек. Так, служивый?
– Так, – согласился Барков, а сам опустил правую руку в сапог.
– Если выберешься, – на этот раз обратился он к радисту, – передай в штаб, что танки подорвались на минном поле, как и вся разведгруппа. Усёк?
Камышев понимающе кивнул.
Тем временем капитан резко выхватил из-за голенища сапога финку и попытался ударить им возчика, но прежде чем он дотянулся до врага, ствол маузера упёрся ему в сердце и выпустил пулю.
– Последний мёртвый враг станет нам братом и, приговорённый жить вечно, выйдет в дозор, – услышал Камышев знакомые слова, на этот раз произнесённые по-русски уполномоченным Реввоенсоветом Антонюком.
Ещё метров сто ехал новобранец на телеге, не спуская глаз с распростёртого тела командира, прежде чем окончательно прийти в себя. Затем он спрыгнул с подводы и долго смотрел в след удаляющимся мертвецам, пока по его щекам градом катились слёзы облегчения.
Вернувшись на поляну, Камышев с трудом в спустившихся сумерках отыскал свою рацию. Всю ночь доброволец бродил по заколдованному лесу, пытаясь выйти к Днепру. Лишь только на рассвете ему это удалось.
Первым делом он снова попытался соединить приёмопередатчик с упаковкой питания, и в этот раз всё сработало безупречно. Лампы рации загорелись, а индикаторные стрелки плавно задёргались.
Передав зашифрованное сообщение своего командира, Камышев по инструкции уничтожил рацию, чтобы она не досталась врагу, и на бревне переправился на левый берег Днепра вслед за наступающей армией Гудериана.
* * *
Когда полковнику Караваеву принесли радиограмму от группы Баркова с сообщением о подрыве на минном поле немецкого танкового батальона, он лишь махнул рукой. Сведения давно устарели, так как линия фронта к тому времени переместилась на 50 километров вглубь страны. Отступление Красной Армии продолжалось. Война в России шла своим чередом.
Оккупация
В час, когда умрёт Надежда на спасение, и ты оставишь нас, Господи, как оставил умирать сына своего на кресте, молим тебя лишь об одном: сохрани нам терпение твоё, ибо веруем.
(Из молитвы, записанной на стене пещеры близ Рима в 455 году н.э.)
– Стой, Леший, – Василь натянул поводья, – тпру, тебе говорю!
До хутора оставалось не более полукилометра, и мерин, ничего не понимая, остановился. Вот он, родной дом, почти рядом, полный тепла и Надежды, которая напоит его и накормит, так зачем это непредвиденное хозяйское «тпру»? С досады он даже замотал из стороны в сторону своей косматой лошадиной головой, после чего недовольно стал бить правым передним копытом о мёрзлую землю.
– Ну, – прикрикнул на него хуторянин, – побалуй мне ещё!
Солнце садилось, день подходил к концу, и Василь не мог себе отказать в невинном удовольствии: замерзшей рукой он забрался глубоко за пазуху и достал новенькие, только что отпечатанные деньги; вдохнул их сладкий запах, бережно пересчитал, пристально вглядываясь в доселе невиданные купюры.
– Вот, Леший, смотри, – с издёвкой над недалёким животным обратился Василь к мерину, – видел когда-нибудь такие гроши?
Услыхав своё имя, конь тронулся было с места, но хозяин, натянув поводья, снова укротил его ход:
– Тпру, тебе говорю, безмозглая ты скотина, – ласково выругался крестьянин. – Это же рейхсмарки, дурья твоя голова. Не какие-то там рубли иль карбованцы, а настоящие гроши, немецкие!