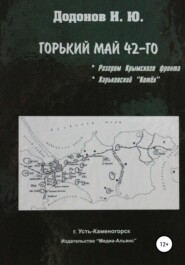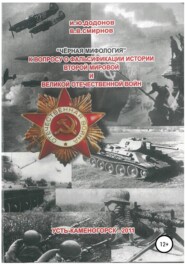По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трудные дороги освобождения. Третья битва за Харьков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
13-я армия действовала на 46-километровом фронте. Её ударная группировка была сосредоточена в 18-километровой полосе между реками Кшень и Олым. В первом эшелоне ударной группировки находились четыре стрелковые дивизии (148, 307, 132-я и 8-я), одна танковая бригада и три танковых полка. Во втором эшелоне – три стрелковые дивизии (280, 211-я и 81-я) и одна танковая бригада (129-я). Всего в армии Н.П. Пухова для непосредственной поддержки пехоты выделялись 167 танков. Также в полосе 13-й армии был сосредоточен резерв Брянского фронта – 6-я гвардейская и 137-я стрелковые дивизии и 19-й танковый корпус (81 танк) [19; 355], [40; 3].
В 38-й армии ударная группировка была развёрнута в один эшелон на 14-километровом фронте от Козинок до Озерков. В неё входили 167-я и 240-я стрелковые дивизии, 180-я танковая бригада и 14-й танковый батальон (общее количество танков – 91). За ударной группировкой располагался армейский резерв – одна стрелковая дивизия, курсы младших лейтенантов и танковый батальон [19; 355], [40; 3].
60-я армия, получив, как указывалось выше, от 40-й 22-километровый участок от Костенок до Семидесятского, свою ударную группировку как раз на нём и развернула, т.е. на своём левом фланге. Ударная группировка располагалась в 12-километровой полосе и строилась в два эшелона. В первом эшелоне находились 232-я и 322-я стрелковые дивизии, 253-я стрелковая и три танковые бригады (всего – 51 танк); во втором – 303-я стрелковая дивизия [19; 355 – 356], [40; 3].
40-я армия занимала фронт в 50 км от Семидесятского до Городища. Главные силы располагались в центре этого построения на 30-километровом участке. Здесь были сосредоточены в первом эшелоне четыре стрелковые дивизии (183, 309, 107, 340-я), одна стрелковая (129-я) и две танковые бригады (192-я и 96-я; всего – 28 танков), а также 4-й танковый корпус (219 танков), занявший исходные позиции в полосе 309-й и 107-й стрелковых дивизий. Второй эшелон ударной группировки составили три лыжно-стрелковые бригады (4, 6-я и 8-я). Во второй эшелон должна была войти и 305-я стрелковая дивизия, к началу Воронежско-Касторненской операции выдвигавшаяся от Алексеевки после уничтожения войск противника, попавших под этим населённым пунктом в «котёл» [29; 405 – 407], [19; 356], [40; 3].
Действия сухопутных войск Брянского и Воронежского фронтов с воздуха обеспечивались 15-й воздушной армией Брянского фронта (413 самолётов) и 2-й воздушной армией Воронежского фронта (200 самолётов) [21; 106], [19; 352], [40; 1 – 2].
В Воронежском выступе советским войскам противостояли соединения 2-й немецкой армии и две дивизии 3-го армейского корпуса 2-й венгерской армии. Всего на 300-километровом фронте враг располагал двенадцатью дивизиями. Общая численность его войск достигала 125 тысяч солдат и офицеров, 1100 орудий (в том числе, 500 противотанковых), около 1000 миномётов и 65 танков [21; 106], [19; 352], [7; 304], [40; 1].
На сей раз советская сторона обладала существенным перевесом в силах. По количеству пехотных соединений мы превосходили немцев в 2,5 раза (против десяти немецких и двух венгерских дивизий у нас было 30,5 расчётных дивизии). Не менее, а скорее более чем двукратным должно было быть соотношение в общей численности противостоящих группировок. К сожалению, в моём распоряжении нет данных об общей численности войск Брянского и Воронежского фронтов, принимавших участие в Воронежско-Касторненской наступательной операции. Но с учётом того, что к моменту её начала только 13-я армия Н.П. Пухова насчитывала 95 000 человек, с уверенностью можно говорить, что эта численность никак не могла быть менее 250 000 человек [9; 121], [35; 284].
Две советские воздушные армии превосходили силы немецкой авиации не менее чем в 2 раза.
Но особенно существенным было превосходство наших войск в танках: 637 советских против 65 танков противника, т.е. почти в 10 раз. Хотя можно согласиться с К.С. Москаленко, что на 1 км фронта количество танков в наших наступающих соединениях было явно недостаточным [29; 407]. Конечно, маршал говорит только о своей 40-й армии, где на 1 км фронта прорыва приходилось в среднем 8,2 боевые машины (247 танков/30 км фронта прорыва) [29; 407]. Но в не меньшей, а, пожалуй, даже в большей степени это справедливо и для других участков наступления. На участке 60-й армии на 1 км фронта прорыва приходилось в среднем всего 4,3 танка (51 танк/12 км фронта прорыва), 38-й – 6,5 танка (91 танк/14 км фронта прорыва). И только в 13-й армии Н.П. Пухова танков на 1 км фронта прорыва было больше – 9,3 (167 танков/18 км фронта прорыва), а с учётом фронтового резерва, находящегося в полосе армии, – даже 13,8.
Тем не менее преимущество в танках над немцами было подавляющим.
Начало наступления устанавливалось: для 40-й армии – 24 января, для 60-й и 38-й армий – 25 января, для 13-й армии – 26 января [7; 306 – 307], [19; 353], [40; 2].
21 января в Ставку ВГК были представлены последние уточнения по плану операции. «В них предусматривалось, – пишет А.М. Василевский, – по завершении операции к 30 января развернуть на реке Оскол, от Старого Оскола до Уразово, основные силы фронта (Воронежского – И.Д.) и нанести ими три удара по сходящимся направлениям на Харьков. Армии правого крыла фронта с реки Тим должны были нанести удар на Курск, обеспечивая проведение Харьковской операции с севера» [7; 306]. Фактически данные уточнения представляли собой план новой наступательной операции. Подробнее разговор об этом плане пойдёт в следующей главе.
Ставка согласилась с данными предложениями [7; 306].
Воронежско-Касторненская операция началась 24 января с наступления 40-й армии К.С. Москаленко. Снова К.С. Москаленко наступал первым. Но если в Острогожско-Россошанской наступательной операции первенство 40-й армии в начале наступления было импровизированным, то теперь более ранний её удар предусматривался планом.
Своеобразной традицией операций зимы 1942 – 1943 годов стала плохая погода, затруднявшая артиллерийскую подготовку и поддержку наступления советских войск с воздуха. Выше говорилось о чрезвычайно тяжёлых погодных условиях при проведении Острогожско-Россошанской операции. Не стала исключением и Воронежско-Касторненская наступательная операция.
Утром 24 января 1943 года, т.е. в день начала наступления 40-й армии, поднялась сильнейшая метель. Дороги занесло. При этом стоял ещё и довольно сильный мороз – 20 градусов по Цельсию. Но главное – крайне ограниченной стала видимость. В таких условиях эффективность артподготовки была очень низкой. Поэтому в надежде на то, что метель утихнет, артиллерийскую подготовку с предрассветных часов перенесли на 12 часов дня. Однако и к полудню метель не прекратилась. Независимо от погоды было решено начать артподготовку в 12.30. Она продолжалась, согласно плану, 30 минут, но её результат был незначителен [29; 408], [40; 4].
От авиационной подготовки в условиях сильной метели вообще пришлось отказаться.
Всё это осложнило действия нашей пехоты и танков. Пехота во время артподготовки приблизилась к позициям противника на 300 – 350 метров. После её окончания пехотинцы при поддержке танков тут же атаковали врага, но были встречены плотным ружейно-пулемётным и артиллерийским огнём. По всему фронту наступления 40-й армии разгорелся ожесточённый бой. Уже спустя час на ряде участков войскам 40-й армии удалось вклиниться в оборону противника, однако они тут же вынуждены были отражать сильнейшие контратаки. В итоге к концу дня стрелковые соединения армии на отдельных участках продвинулись на глубину от 3 до 6 км в расположение немцев. На некоторых участках продвижения не было совсем – пехотные части вели бой, не продвинувшись и сотни метров от своих исходных позиций [29; 408], [19; 356 – 357], [40; 4].
Наиболее успешными 24 января оказались действия 4-го танкового корпуса генерала А.Г. Кравченко. Вот что о наступлении корпуса рассказывает К.С. Москаленко:
«Ещё успешнее действовал 4-й танковый корпус. Он сломил сопротивление частей 68-й немецкой пехотной дивизии, за два часа с боем продвинулся на 6 – 8 км и овладел районом Лебяжье. Далее ему предстояло наступать на Архангельское. Большие снежные заносы вынудили генерала А.Г. Кравченко выбрать кратчайший путь – через населённые пункты Старомеловое и Новомеловое.
Условия наступления были и здесь крайне тяжёлыми. Попытки двигаться вне дорог с целью обхода населённых пунктов, приспособленных противником к круговой обороне, ни к чему не привели. Танки застревали в глубоком снегу, буксовали и расходовали большое количество горючего. Дороги были также во многих местах занесены снегом.
Несмотря на все трудности, корпус, посадив мотострелковую бригаду на танки, вышел к Новомеловому и Старомеловому, продвинувшись за день на 16 км. С наступлением темноты он освободил эти населённые пункты. Потери его при этом были весьма значительными, так как из-за снежных заносов бригады вводились в бой поочерёдно и вынуждены были действовать только вдоль дороги.
Двигаться дальше к Горшечному кратчайшим путём не удалось. Разведка, посланная вечером в направлении населённого пункта Нижне-Гнилое, обнаружила там противотанковый опорный пункт. Противник готовился к отражению удара. Генералу Кравченко предстояло либо идти в лоб на врага, либо искать иного маршрута. Он предпочёл последнее» [29; 408 – 409].
Замечу, что дневное продвижение в 16 км для танкового соединения – это маловато. По плану операции, 4-й танковый корпус должен был преодолеть в первый день операции 35 км [19; 356 – 357], [40; 4]. Причины отставания от графика К.С. Москаленко указаны – тяжёлые погодные условия и труднопроходимая, вследствие последних, для танков и техники вообще местность. Эти обстоятельства лишали танковые силы свободы манёвра, заставляли действовать только вдоль дорог, тоже труднопроходимых, атаковать в лоб узлы вражеской обороны.
Кстати, о немецкой обороне на южном фасе Воронежского выступа. Всё познаётся в сравнении. И в сравнении с восточным и северным фасами выступа, как уже отмечалось выше, оборона на южном была значительно слабее, т.к. участок обороны этот был для 2-й немецкой армии новым, занимался спешно, и времени хорошо на нём закрепиться у немцев попросту не было. Об этом в один голос свидетельствуют все мемуаристы (и наши, и немецкие) и все современные историки.
Однако предостерегаю читателя от того, чтобы вообразить, что стояли немцы во чистом поле, на ровном снегу или сидели в абы как выдолбленных в мёрзлой земле мелких (по колено) траншейках и палили из стрелкового оружия по армаде двигавшихся на них советских танков. Типпельскирх о немецкой обороне юго-западнее Воронежа в 20-х числах января 1943 года пишет следующее:
«Эта дивизия (имеется в виду одна из двух венгерских дивизий 3-го армейского корпуса 2-й венгерской армии, отступивших в полосу действия 2-й немецкой армии – И.Д.) вместе с немецкими частями, которые 2-я армия бросила для защиты своего угрожаемого южного фланга в район юго-западнее Воронежа, оказала, наконец, сильное сопротивление, так что здесь после введения других немецких сил была создана довольно прочная оборона, которую войска удерживали целую неделю. Но главную опасность для 2-й армии представляло русское наступление, развивавшееся гораздо дальше к западу. Русские безостановочно продвигались там вперёд с целью охвата и, очевидно, хотели захватить Горшечное, узел дорог в 80 км западнее Воронежа. Одновременно можно было догадаться, что русские готовили удар из района Ливны, Елец в направлении на Касторное против северного фланга 2-й армии» [44; 360].
Итак, немцы не могли создать на южном фасе Воронежской дуги одинаково сильной, глубоко эшелонированной на всех участках обороны. Наиболее надёжной она была ближе к Воронежу. При удалении на юго-запад её прочность снижалась, что вполне естественно, принимая во внимание, что немцам всё дальше и дальше приходилось перебрасывать войска от мест их первоначальной дислокации, да и необходимыми резервами для создания прочной обороны при подобном удлинении линии фронта они не обладали.
В такой обстановке немцы пошли по следующему пути – за сплошной (относительно слабой) полосой обороны в населённых пунктах ими были созданы противотанковые опорные пункты, приспособленные к круговой обороне. В условиях сильно пересечённой местности, по которой проходило наступление 40-й армии, к которым добавлялись высота снежного покрова и тяжёлые погодные условия, русским войскам не оставалось ничего другого, как наступать вдоль дорог. А дороги эти лежали через населённые пункты, в которых и окопались немецкие гарнизоны. Волей-неволей взятие почти каждого такого узла сопротивления превращалось в лобовой штурм и сопровождалось значительными потерями.
На примере действий танкового корпуса А.Г. Кравченко 24 января видно, что в этот день корпусу пришлось брать два опорных пункта немцев – в Новомеловом и Старомеловом. Дальше танкистов ждал сильный узел сопротивления в Нижне-Гнилом, от штурма которого, принимая во внимание его укреплённость, А.Г. Кравченко вообще решил отказаться.
Словом, не надо недооценивать оборону немцев на южном фасе Воронежского выступа. При всей своей сравнительной с северным и восточным фасом слабости она доставляла наступающим советским войскам много проблем.
На следующий день, 25 января, командир 4-го танкового корпуса А.Г. Кравченко принял удачное решение. Проанализировав данные вновь посланной разведки, А.Г. Кравченко решил двигаться не на Нижне-Гнилое, а на населённый пункт Болото, в котором также был опорный пункт немцев, но укреплённый сравнительно слабее.
«Утром 25 января» корпус «перешёл в наступление на Болото, уничтожил там вражеский гарнизон и подошёл к Горшечному с той стороны, откуда противник вообще не ожидал наступления. Фашисты были захвачены врасплох. Это способствовало тому, что вражеская оборона была быстро смята. Танковый корпус с ходу ворвался в Горшечное и овладел им» [29; 409].
В дальнейшем, согласно плану, 4-й танковый корпус должен был продвигаться на Касторное. Однако в корпусе закончилось горючее – сказался его перерасход из-за снежных заносов. Последнее обстоятельство привело также к тому, что безнадёжно отстали тылы, включая автоцистерны с горючим, застрявшие на заснеженных дорогах. Танковый корпус встал в Горшечном. Продолжение операции было возможно только после дозаправки.
Но в этот день эстафету успешных действий перехватили у танкистов пехотинцы. Используя успех 4-го танкового корпуса, стрелковые соединения на всём фронте прорвали оборону противника, устремившись на север и северо-запад, отрезая пути отхода основным силам 2-й немецкой армии [29; 409], [19; 357], [40; 4].
«Лучше всех действовала 25-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора П.М. Шафаренко, – вспоминает К.С. Москаленко. – Продолжая развивать наступление, она совместно с 96-й танковой бригадой под командованием генерал-майора танковых войск В.Г. Лебедева продвинулась вслед за 4-м танковым корпусом и в середине дня вышла к Старомеловому и Новомеловому. К исходу дня её части продвинулись на 18 км, разгромили до батальона пехоты 68-й пехотной дивизии противника в Нижне-Гнилом и овладели этим населённым пунктом, превращённым гитлеровцами в опорной пункт сопротивления. Мелкие вражеские группы бежали в северном направлении.
183-я стрелковая дивизия генерал-майора А.С. Костицына и 129-я стрелковая бригада (командир – полковник И.И. Ладыгин) в этот же день продвинулись на 12 км» [29; 409 – 410].
Наименьшее продвижение имели правофланговые части 183-й стрелковой дивизии и 129-й стрелковой бригады, действовавшие у разграничительной линии с 60-й армией. Наткнувшись на опорные пункты врага, они потратили много времени на их взятие, продвинувшись за день всего на 2-3 км [29; 410].
25 января перешли в наступление соединения 60-й армии генерал-майора И.Д. Черняховского. В принципе именно в этот день, согласно плану наступательной операции, войска 60-й армии и должны были нанести удар. Однако имела место некоторая импровизация. По результатам боевых действий 24 января командование группы армий «Б» увидело, что его войска в районе Воронежа оказались в «мешке» и им грозит полное окружение. Поэтому оно приняло решение о выводе из города своих сил. Отход должны были прикрывать небольшие арьергарды. Этот манёвр не остался незамеченным советской стороной. Соединения 60-й армии тут же перешли к преследованию противника. Они разгромили его части прикрытия и к рассвету 25 января полностью освободили Воронеж [21; 106], [19; 357], [40; 4], [7; 306].
Отступая из города, гитлеровцы поджигали и взрывали лучшие городские здания. Были взорваны здания Воронежского государственного университета (бывший кадетский корпус), Дворца пионеров, Обкома партии, вокзала, домик Петра I. Почти всех остававшихся в городе жителей фашисты угнали на запад. Советские воины вступили на пустынные улицы, озарённые заревом многочисленных пожаров [21; 106], [40; 4].
25 января перешли в наступление и войска 38-й армии генерала Н.Е. Чибисова [7; 307].
В 8.08 утра 26 января к наступлению присоединилась 13-я армия Брянского фронта. Артподготовка началась с удара «катюш». Затем заговорила артиллерия. В 8.55 немецкие позиции подверглись массированной бомбардировке с воздуха, осуществлённой штурмовиками и бомбардировщиками 15-й воздушной армии. Пока шла авиационная подготовка, советские танки с десантом автоматчиков начали выдвижение через боевые позиции пехоты. Сразу же по окончании авиационной подготовки танки устремились в атаку. Несмотря на хорошо подготовленную оборону противника, войскам 13-й армии удалось её прорвать. К концу дня продвинулись на глубину 6 – 7 км, что полностью соответствовало задаче первого дня наступления [19; 357], [21; 107], [40; 4]. Начальник разведки штаба 82-й немецкой пехотной дивизии, оборонявшейся на северном фасе Воронежского выступа, обер-лейтенант Мюллер вынужден был признать:
«Мы никак не предполагали, что наступление будет так тщательно подготовлено и будет иметь такой успех. Мы в штабе были поражены его силой и не могли даже опомниться от первых ударов, как русские прорвали нашу линию обороны и стремительно двинулись вперёд» [21; 107].
Налицо явная переоценка немцами возможностей своей обороны и недооценка наступательных возможностей противника.
Весьма драматично 26 января развивались события в полосе наступления 40-й армии К.С. Москаленко. 4-й танковый корпус стоял в Горшечном без горючего. Автоцистерны так и не могли пробиться к нему по заснеженным дорогам. Тогда на помощь пришла авиация. Ночные бомбардировщики У-2 в течение двух ночей (с 25 на 26 и с 26 на 27 января) доставляли дизельное топливо и бензин для корпуса. Отважные лётчики при свете костров садили машины прямо на расчищенные от снега участки дорог. Благодаря этому к утру 27 января корпус А.Г. Кравченко смог возобновить движение на Касторное [21; 106 – 107], [19; 357], [40; 5].
Но 26 января он ещё продолжал стоять. Немцы незамедлительно воспользовались этим обстоятельством. Германское командование прекрасно понимало, что после захвата Нижне-Гнилого и Горшечного у войск 2-й армии остаётся один выход на запад из «мешка», в котором они оказались, – через Касторное. Конечно, сам по себе коридор, не занятый советскими войсками, был ещё довольно широк – около 60 километров [19; 357], [40; 4]. Однако надо учитывать, что ширина его значительно сужалась из-за того, что двигаться в условиях снежных заносов можно было только по дорогам. В такой ситуации узел дорог Касторное и оставался практически единственным выходом из «мешка».
Поэтому немцы решили не только не сдавать Касторное, но и расширить свободный коридор. С этой целью они, перебросив часть выведенных из Воронежа сил в полосу наступления 40-й армии, контратаковали и вновь захватили Нижне-Гнилое [29; 410 – 411].
Соединения 60-й и 38-й армий 26 января также наносили удары в направлении Касторного с юго-востока и северо-востока соответственно [21; 107].
27 января 4-й танковый корпус возобновил наступление из района Горшечного на Касторное. Авангардом корпуса была 45-я танковая бригада подполковника П.К. Жидкова, которая с десантом автоматчиков на броне к концу дня вышла на южные подступы к Касторному. Одновременно корпусом были перехвачены пути отхода противника на юго-запад. Пытавшиеся пробиться в этом направлении группы и колонны противника, встреченные огнём танков, вынуждены были искать другие пути отхода из образующегося «котла» [29; 411], [19; 358], [40; 5].
25-я гвардейская стрелковая дивизия 40-й армии в этот день выбила противника из Нижне-Гнилого, проследовала до Горшечного, откуда уже ушли части 4-го тк, и, заняв этот населённый пункт, взяла под контроль все перекрёстки дорог в его районе [29; 411], [19; 358], [40; 5].