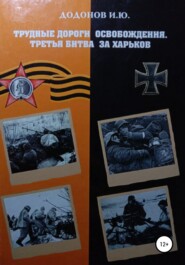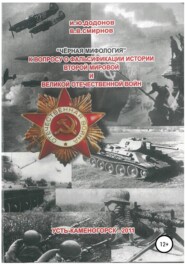По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Генерального Штаба
ВАСИЛЕВСКИЙ»
[32; 55].
Можно сказать, что с приездом в Крым армейского комиссара 1-го ранга Л. З. Мехлиса открылась новая страница в истории Кавказского (Крымского) фронта. Хотя страница эта оказалась, увы, трагической. Роль Л.З. Мехлиса в судьбе фронта была, безусловно, очень велика. И в нашей (советской, а ныне российской) историографии её принято показывать, как правило, абсолютно негативной. Но так ли это? Подобный вопрос требует познакомиться с личностью Л.З. Мехлиса поближе, не ограничиваясь общепринятыми штампами её восприятия.
* * *
Лев Захарович Мехлис родился в 1889 году в Одессе в семье мелкого служащего. Окончив 6 классов еврейской школы, какое-то время работал конторщиком. В 1907 году вступил в сионистскую партию «Паолей Цион» («Рабочие Сиона»), близкую по идеологии к «Союзу Бунда». Однако, очевидно, националистический уклон в программе и деятельности партии не устраивал Мехлиса, потому что он довольно скоро из неё вышел [26; 296], [41; 1].
В 1911 году Мехлис был призван в царскую армию. Службу проходил во 2-й гренадёрской артиллерийской бригаде. К 1918 году Лев Захарович имел чин взводного фейерверкера (это был максимальный унтер-офицерский чин в артиллерии царской армии) [26; 296].
В январе 1918 года Мехлис демобилизовался из армии. Тогда же он вступает в большевистскую партию. Не приходится сомневаться, что этот шаг был сделан им не вдруг, что ещё во время службы Мехлис сделался сторонником большевиков.
В 1919 году партия направляет Мехлиса комиссаром в Красную Армию.
«После ухода в Красную Армию его карьера идёт на взлёт: комиссар бригады, дивизии, Правобережной группы войск на Украине. В должности комиссара 46-й стрелковой дивизии в 1920 г. впервые попадает в Крым. Его замечают и выдвигают на руководящие посты в политические структуры», – так выглядит краткое описание службы Мехлиса в Красной Армии в годы гражданской войны в статье С. Ченныка под весьма хлёстким названием «Лев Мехлис. Инквизитор Красной Армии» [41; 1]. И вроде бы не солгал С. Ченнык. Верно изложил последовательность событий биографии Льва Захаровича. Но недаром говорят, что краткость в изложении, недосказанность могут оказаться хуже прямой лжи. Во лжи можно усомниться, проверить факты и в итоге отбросить её. А вот что делать с такой «сокращённой правдой»? Автор статьи не искажает ничего, но после прочтения его статьи возникает перед мысленным взором образ партийного функционера, чинуши, вся деятельность которого в войсках сводилась к «перебору бумажек» и «деланью» собственной карьеры. Между тем это ничуть не соответствует действительности. Что же стоит за ступенями армейской карьеры Мехлиса, какие события?
Лев Захарович в Красной Армии начинает обращать на себя внимание своим бесстрашием. Оно-то и явилось «движущей пружиной» его воинской «карьеры».
Сначала он был комиссаром запасной бригады, расквартированной в Екатеринославе. 10 мая 1919 года город был внезапно захвачен бандами атамана Григорьева. Мехлис с двумя десятками бойцов пробивается из города, встречает идущее к красным подкрепление, возглавляет его и два дня дерётся с григорьевцами, несмотря на полученную контузию. В конечном итоге его отряд выбивает бандитов из города [26; 296-297].
После екатеринославских событий бесстрашного комиссара назначают во 2-й интернациональный полк 14-й армии красных. И полк отличается в боях с деникинцами. При этом Мехлиса постоянно видят на передовой – в окопах под огнём противника, в атакующих цепях, в разведке. Он вдохновляет бойцов своим примером [26; 297].
Успехи 2-го интернационального полка предопределили назначение Мехлиса в 46-ю дивизию. Повышение по службе? Формально – да. Но что представляла собой эта дивизия?! Существовали в то время в Красной Армии части и соединения, которые назвать регулярными даже с очень большой натяжкой было нельзя. Возникшие стихийно, как реакция народных масс на «возвращение господ», они, даже влившись в Красную Армию, продолжали оставаться чем-то вроде казачьей вольницы; другими словами, царили в них партизанщина и анархия. Такой была и 46-я дивизия 14-й армии. В ней опасно было даже называть себя коммунистом. Что за порядки царили в соединении, видно из следующего описания, которое историк Ю. Рубцов делает на основе документов:
«В 406-м полку орудовала «шайка бандитов» во главе с комбатом С. Тот убил командира полка и занял его место. Вмешательство комбрига результата не дало» [26; 297].
Вновь назначенный комиссар приехал в полк. «В халупе у С. он обнаружил настоящий бандитский притон – пьянка, разгул, полуобнажённые женщины… Не терпящим возражения голосом предложив всем покинуть помещение, политком остался с глазу на глаза с С. и потребовал назвать сообщника по преступлению. Стрельбы не было, за оружие, конечно, хватались, друг другу угрожали. Отдадим должное Льву Захаровичу: прояви он слабость – головы бы ему не сносить. А так С., отступив перед волевым напором комиссара, сдался и даже без конвоя был препровождён в штаб, где его и арестовали» [26; 297].
Вот так Мехлис наводил в дивизии порядок. Даже отъявленные бандиты отступали перед его храбростью. Комиссар безжалостно «вычистил» из дивизии всех командиров и политработников, которые запятнали себя своим поведением. Им были укреплены политотдел, особый отдел и ревтрибунал соединения. Дивизия на глазах наращивала боеспособность.
В этот период командование 14-й армии дало Л.З. Мехлису такую характеристику (просим читателя обратить на неё особое внимание, очень интересный образ «чинуши» и «партийного «бумажного» функционера» она рисует):
«Мехлис – человек храбрый, способный во время боя внести воодушевление, стремится в опасные места фронта. Но как политком не имеет политического такта и не знает своих прав и обязанностей.
…Тов. Мехлис прежде всего боевой солдат и энергичный работник. Отсутствие такта и упрямство значительно уменьшают его достоинства как комиссара, ввиду чего работать с ним тяжело. Политического, «комиссарского» опыта, необходимого комиссару дивизии, у него нет, почему в работе его наблюдаются некоторые ненормальности (культ шомпольной расправы самих красноармейцев над провинившимися товарищами (выделено нами – И.Д.)). Тем не менее, при всех своих недостатках можно сказать, что Мехлис… удовлетворителен благодаря общему уровню своего развития, энергии и знанию военного дела…» [26; 298].
Вот вам и «карьерист и чинуша»: храбр, жизни своей не жалеет, чем и заработал свой авторитет. В то же время «не имеет политического такта» и командованию с ним тяжело работается. Другими словами, «в рот начальству» Мехлис «не заглядывает» и «спинку перед ним не прогибает». Что до «шомпольной расправы» над провинившимися, то, заметьте, осуществляет её не Мехлис со своими «инквизиторами» (политработниками и особистами), а делают это сами красноармейцы, Мехлис же не препятствует такому положению вещей. Очевидно, навести порядок в анархической дивизии по-другому и нельзя было.
К концу 1919 года 46-ю дивизию передали в 13-ю армию, т.к. последняя была сильно ослаблена в боях. Задача же перед ней стояла чрезвычайно важная – не допустить отход белогвардейских войск в Крым. Однако выполнить её армия оказалась не в состоянии: корпус белого генерала Я.А. Слащёва успел выйти на Перекоп и занять на нём позиции. Единственным соединением красных, которое подтянулось к Перекопу сразу же за корпусом Слащёва, оказалась 46-я дивизия. Здесь она в течение довольно продолжительного времени вела «дуэль» с белым корпусом, даже захватывала Перекоп и Армянск, но, уступая противнику в силах, в конечном счёте была отброшена. В феврале 1943 года служивший в войсках Волховского фронта капитан И. Бахтин, сослуживец Мехлиса по 46-й дивизии, написал последнему, бывшему тогда членом Военного совета Волховского фронта, письмо:
«Помните ли Вы, дорогой генерал, такой же тающий февраль между Юшунем и Армянским базаром в 1920 году и наши две одинокие фигуры, ведущие огонь по слащёвской коннице, пока наши отступавшие части не опомнились и не залегли в цепь вместе с нами?» [26; 299].
Очень ценные для нас строки. Они не только ещё раз свидетельствуют о храбрости Мехлиса, но и показывают, каково было отношение к нему со стороны писавшего их. Строевой капитан не только не побоялся написать письмо генералу, члену Военного совета, но и называет его в письме «дорогой генерал», что, безусловно, говорит о глубочайшем уважении автора письма к Мехлису, уважении, зародившемся во время гражданской войны и никуда не «испарившемся» за межвоенный период и годы Великой Отечественной. Значит, было за что уважать. И капитан Бахтин в этом своём отношении не единственен. Есть множество свидетельств уважительного отношения ко Льву Захаровичу как фронтовиков Отечественной, так и людей, работавших с ним в мирное время.
Но всё это будет позже, а тогда, в 1920 году, подтянувшаяся к Перекопу 13-я армия в марте предприняла ещё ряд попыток пробиться в Крым. Несмотря на то, что однажды красным удалось прорвать оборону на Перекопе, они всё-таки были отброшены. В апреле же уже белые, накопившие силы, перешли в наступление. 14 апреля южнее Мелитополя, в районе деревни Кирилловки, с моря был высажен десант – Алексеевский пехотный полк и Корниловская артбатарея. Противник стремился перерезать железную дорогу Мелитополь – Большой Утлюк, по которой шло снабжение всей 13-й армии. Район высадки десанта был тыловым как раз для 46-й дивизии. Её части и провели уничтожение высадившихся белогвардейцев. В четырёхдневных боях комиссар дивизии вновь отличился. Первоначально сформированный Мехлисом сводный отряд из частей мелитопольского гарнизона и городских рабочих до подхода 409-го полка дивизии смог остановить белых десантников, а затем, с прибытием подкрепления, даже перейти в контрнаступление и отрезать белогвардейцам пути отхода. Части десанта удалось вырваться и вдоль морского побережья уйти к Геническу. По дороге остатки белых ударили по тылам 411-го полка красных. Неожиданный удар вызвал панику и беспорядочное отступление полка. Прибывший в этот момент в полк Мехлис быстро навёл в нём порядок. Под руководством комиссара остатки белого десанта были уничтожены в боях на улицах Геническа [26; 299-300].
Как докладывал командованию армии начдив Ю.В. Саблин, комиссар дивизии «всё время находился в передовых цепях, увлекая вперёд в атаку красноармейцев своим личным примером» [26; 300].
В ходе боя за Геническ Мехлис был довольно сильно ранен в левое плечо (сквозное ранение ружейной пулей со значительным раздроблением кости), но из боя не вышел вплоть до его окончания.
За ликвидацию Мелитопольского десанта Ю.В. Саблин и Л.З. Мехлис были представлены к орденам Красного Знамени [26; 300].
После недолгой службы членом реввоенсовета Юго-Западного фронта Мехлис был назначен политкомиссаром в так называемую Ударную группу Правобережной Украины. Именно её силы, переправившись через Днепр в ночь на 7 августа 1920 года, захватили знаменитый Каховский плацдарм. Есть свидетельства, что передовой отряд группы возглавлялся Мехлисом [26; 301]. Все попытки врангелевцев скинуть красных в Днепр успехом не увенчались. Каховский плацдарм стал символом мужества, стойкости и героизма Красной Армии. И, как всегда, Мехлис был в передовых рядах бойцов. Так, в ходе боя 5 сентября он лично, будучи артиллеристом, возглавил батарею, на участке которой врангелевцы особо яростно атаковали [26; 301-302].
После войны Мехлис, карьера которого на политическом поприще в РККА была обеспечена, как ни странно, уходит из армии. Он занимает должность совершенно незаметную – возглавляет канцелярию Совнаркома, которая к тому времени, погрязнув в бюрократизме и волоките, была крайне неэффективным органом. И Мехлис занялся рутинной бумажной работой. Налаживая контроль за прохождением документации, наказывая разгильдяев и бюрократов, он очень быстро добился того, что канцелярия Совнаркома заработала, «как часы» [26; 304].
Осенью 1921 года его направляют налаживать работу Рабоче-крестьянской инспекции, а через год, по инициативе Сталина, переводят из Рабкрина на должность главы аппарата ЦК РКП(б). Мехлис справляется и с этой работой [26; 303-304].
Надо отметить, что какую бы должность Мехлис не занимал, он целиком отдавался работе. Требовательность к другим у него сочеталась с ещё большей требовательностью к себе. Без всякой иронии можно сказать, что человек буквально «горел на посту». Сохранилась записка И.В. Сталина к А.И. Рыкову, тогдашнему главе Совнаркома, и В.М. Молотову от 17 июля 1925 года:
«Прошу вас обоих устроить Мехлиса в Мухалатку или другой благоустроенный санаторий, не обращайте внимания на протесты Мехлиса, он меня не слушает, он должен послушать вас, жду ответа» [26; 304].
В 1926-1929 годах Мехлис учится в Институте красной профессуры. Причём его способности обращают на себя внимание преподавателей. Его работы публикуются в теоретическом журнале коммунистов «Большевик».
После окончания института Мехлиса направляют на работу в редакцию «Правды». Сначала он занимает там должность ответственного секретаря, а вскоре становится главным редактором. И на этом посту Лев Захарович трудится с полной самоотдачей: он работает без отпусков и выходных, не обращая внимания на состояние своего здоровья. Был случай, когда его, тяжело заболевшего, прямо из кабинета увезли в больницу, а после выписки он первым делом отправился на своё рабочее место, а не домой [26; 304-305].
В конце 1937 года Мехлис вернулся на политическую работу в армию – его назначили начальником Главного политического управления РККА (Главпура).
Занимая эту должность, Мехлис принял активное участие в чистке армии, за что и подвергается с «перестроечной» эпохи сильнейшим нападкам. «Яркий и зловещий представитель 1937 года», «инквизитор Красной Армии», – такими вот прозвищами «наградили» Мехлиса историки [25; 60], [41; 1]. Однако в наши дни уже довольно много написано о том, что и масштабы репрессий в армии сильно преувеличены «демократическими» авторами, и чистка армии и впрямь была нужна, ибо того требовал и моральный облик многих «вычищенных», и политическая их благонадёжность, и их профессиональный уровень. Словом, совсем не всё, сделанное Мехлисом при чистке рядов армии, было злом. Однако разговор о чистках армии – вопрос обширнейший и к нашей теме отношения не имеет.
Сейчас же нам бы хотелось обратить внимание читателей на одну деталь, которая, на наш взгляд, добавляет положительный штрих в характеристику Мехлиса. Историк В. Абрамов, с 70-х годов прошлого столетия занимающийся изучением керченских событий 1942 года, сбором материалов о них, в своё время встречался с работниками Главпура, служившими при Мехлисе. Как говорит В. Абрамов, все они хорошо отзывались о своём начальнике [1; 7-8]. И это после разоблачения «культа личности» и хрущёвской «оттепели». Кстати, и сам Н.С. Хрущёв сказал о Мехлисе следующее:
«Это был воистину честнейший человек, но кое в чём сумасшедший» [26; 306], [22; 4]. Под сумасшествием «кое в чём» Н.С. Хрущёв, очевидно, понимал фанатичную преданность коммунистической идее и стране, свойственную Льву Захаровичу. Подчеркнём, именно делу коммунизма и Советской стране был предан Мехлис, а не Сталину, как принято у нас о нём писать.
Став «главным комиссаром страны», Мехлис не стал кабинетным работником и «парадным генералом» (звание армейского комиссара 1-го ранга, которое носил Мехлис, соответствует, примерно, званию генерала армии; хотя можно говорить и о его примерном соответствии маршальскому званию), не сосредоточился только на вопросах политработы в войсках. Как и в гражданскую, он, прежде всего, остался солдатом.
Это очень ярко показали события советско-финской войны.
Зимняя война, как её называют в Финляндии, оказалась короткой (ноябрь 1939 г. – март 1940 г.), но по ряду причин тяжёлой для нашей армии. И Л.З. Мехлис не «пересидел» её в своём московском кабинете, а, как истинный комиссар, был в войсках, в передовых частях. Он, генерал, начальник Главпура, совсем немолодой уже человек (ему тогда был 51 год), ходил во главе солдатских цепей в атаки [26; 308]. Писатель Д. Ортенберг, будущий главный редактор «Красной Звезды», редактировавший во время «финской» газету 11-й армии «Героический поход», рассказывал, как, будучи вместе с начальником Главпура в одной из дивизий, попали в окружение. Мехлис посадил работников редакции на грузовичок, дал для охраны несколько бойцов и отправил их из дивизии по льду озера (этим путём ещё можно было выскочить из окружения). Ортенберг и работники редакции, действительно, проскочили. Лев Захарович же остался в дивизии. Вместе с командиром он возглавил её выход из окружения [26; 308].
Но и о политико-воспитательной работе в войсках Л.З. Мехлис не забывал. Вот какие любопытные выводы сделал он по этому вопросу после советско-финской войны, озвучив их на совещании по военной идеологии:
«Армию, безусловно, необходимо воспитывать, чтобы она была уверена в своих силах. Армии надо прививать дух уверенности в свою мощь. Но это как небо от земли отличается от хвастовства о непобедимости Красной Армии.
…Не популяризируются лучшие традиции русской армии, и всё, относящееся к ней, огульно охаивается… В оценке действий царской армии процветает шаблон упрощенчества. Всех русских генералов до недавнего времени скопом зачисляли в тупицы и казнокрады. Забыты русские полководцы – Суворов, Кутузов, Багратион и другие, их военное искусство не показано в литературе и остаётся неизвестным командному составу» [26; 311].
И это оголтелый коммунист-фанатик, ничего не знающий и не желающий признавать, кроме своей коммунистической идеи? На официальном уровне советское руководство обратилось к традициям русской воинской славы, начало их пропагандировать после начала Великой Отечественной войны. Мехлис более чем за год до начала войны говорил о недопустимости игнорирования богатой военной истории России для воспитания бойцов и командиров Красной Армии. Подчёркивая необходимость воспитания боевого духа в войсках, Мехлис в то же время был далёк от разного рода «шапкозакидательских» настроений, которые так «дружно» приписываются ему историками.
В августе 1940 года институт военных комиссаров в РККА был упразднён, и Мехлис был назначен на пост народного комиссара Наркомата государственного контроля. Меньше года занимал этот пост Лев Захарович. Но за дело он взялся со свойственной ему энергией, напористостью и принципиальностью. Только за первую половину 1941 года им было организовано свыше 400 ревизий [26; 310]. Чуждый корысти и различных групповых интересов, Мехлис «дал по рукам» многим расхитителям социалистической собственности и просто разгильдяям, не умевшим и не хотевшим беречь «народную копейку».
21 июня 1941 года Лев Захарович вновь был назначен начальником Главного политуправления Красной Армии.
С началом Великой Отечественной войны Мехлис становится заместителем Верховного Главнокомандующего, одновременно продолжая возглавлять Главное политическое управление РККА.
И, как и ранее, он стремится на передовую.