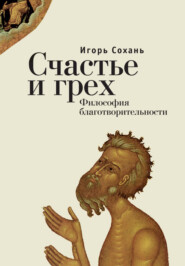По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я и мы. Точка зрения агностического персонализма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот, вот… Если зашел разговор об истине, нужно порассуждать о вере. Истины без веры не бывает, поскольку рано или поздно на какое-то время мы должны поверить во что-то, чтобы прекратить искать истину в определенном направлении (например, согласиться с мнением большинства, что к этому костюму и рубашке идет только этот галстук; что в нашей стране лучше президентская, а не парламентская республика; что видишь в бинокль не одну звездочку, а двойную звезду, которую можно заметить только с помощью телескопа с диаметром зеркала 6,5 метра. После этого поиск истины прекращается, пока не возникнут новые обстоятельства: купили новую рубашку, поменялся лидер государства, мы постарели или получили доступ к новому телескопу.
Мы доверяем друзьям, пока нас не предали, нам легче искать истину с друзьями и охотнее всего мы делимся с ними. Это не значит, что друзья всегда и во всем нас понимают лучше других.
В персонализме все истины субъективны, только конфликты более-менее объективны.
Вот, вот… Если говорим о вере, нужно раскрыть настоящую истину об обмане.
Нет обмана без самообмана. Если не научишься и не привыкнешь обманывать сам себя, никто не обманет. Если не научился искать истину в согласии с самим собой, с другими тоже не найдешь.
Впрочем, можно сказать и противоположное: самообман – это не обман, а этап поиска истины. В самообмане нет веры, обмана, но истины тоже нет, только мелкое кратковременное наслаждение. Самообман – это защита от обмана в надежде, что лучше самому себя обмануть, чем позволить себя обмануть.
Персонализм – это бесконечный разговор об истине, когда вежливо и брезгливо сторонишься обмана, понимая, что все равно рано или поздно споткнешься и обгадишься в поисках истины, пытаясь найти ее вместе с другими. Концепция персонализма противоречива и не позволяет найти истину, тем более если ищешь один, поскольку истина должна быть твоя, но не может быть или не быть общей, а только одновременно общей и твоей. Это противоречие невозможно снять в персонализме никаким образом, поэтому истина всегда останется водоразделом между «Я» и «мы».
В поиске истины важна не сама находка, которой, скорее всего, нет, а передача видения истины от одного человека к другому: Сократ – Платон, Спиноза – Декарт, Кант – Гегель, Гуссерль – Хайдеггер, как это постоянно происходит в мире в поисках мелких истин: от отца к сыну, от старшего брата младшему, от опытной сестры или подруги к неопытной.
Истина – это умение понять другого, разговаривая об одном и том же. Другими словами, умение разговаривать с другим об одном и том же.
Истина – не цель, это одновременно лекарство от болезни и сама болезнь. Эта уравновешенность очень важна. Каждый раз истиной нужно переболеть, как гриппом, и не пытаться поскорее вылечиться. Истина живет рядом с нами, она всегда возле человека, как вирусы, как птицы и звери, ее трудно поймать голыми руками. В горной реке медведь ловит рыбу, плывущую на нерест, лапой, человеку трудно поймать рыбу в воде рукой. Поэтому он придумал удочки, рыбные сети, приманки, чтобы ловить рыбу лучше, чем медведь. Удочка – не лапа, это инструмент, как рычаг, который помогает поднять неподъемные тяжести, как колесо, помогающее перемещать объекты, которые без него не передвинешь. Инструментальность мышления помогла человеку вырваться из природы и позволила создать свой собственный человеческий мир. Это другой мир, не природный, где человек добыл право распоряжаться сущим, в этом можно полностью согласиться с Хайдеггером. Однако человек по-прежнему живет в природном мире, в котором его могут съесть, уничтожить, унизить и разрушить его внутренний мир таким образом, что ничего святого, дорого и любимого не останется. Мир человека сложнее мира животного, поэтому люди легко готовы опуститься в мир «простых истин» и устоявшихся рутинных ритуальных отношений. Каждый из нас испытывал «стадный зов бежать, как все».
Таким образом, мы представили персонализм, не являющийся бабочкой, лекарством, мудростью. Мудрый человек, который так или иначе близок к истине и говорит о ней, может быть похож, например, на бабочку или мотылька. Но бабочка, мотылек и мудрец все же не могут стать эмблемой и тем более эмбрионом персонализма.
Персонализм – это капризная абсолютная убежденность в том, что ты есть. В отличие от других убеждений, это не нужно доказывать. (Спасибо индивидуализму). Сознание, бытие, существование не могут строиться на свидетельствах и доказательствах, хотя иначе их не так просто определить. Персонализм – это единственная привилегия человека, которому ничего не нужно доказывать, несмотря на то, что человек именно этим всю жизнь занимается. (Прости, Гуссерль, спасибо, Фрейд). Персонализм – это презумпция невиновности человека. Я есть. И ничего не нужно доказывать. Это плохо. Поскольку доказывать все-таки придется. Это отличается от “Cogito ergo sum” Декарта. Человек ищет, и если не нашел, обнаружит то или иное доказательство своего привилегированного положения, чтобы не думать, но распоряжаться сущим. Это такая душевная болезнь человека. Нельзя сказать – плохая или хорошая, по-разному бывает. Чтобы не думать каждый раз, нужно научиться передавать знания. Это создает проблему для человека: тот, кто приобретает знания, кардинально отличается от того, кто передает. Поэтому знания передаются всем, но принимаются и усваиваются не каждым.
Приобретение знаний и передача знаний – это разные вещи. Животное нацелено на получение, но не на передачу знаний. Человек «заточен» на передачу. Даже если человек не работает учителем в школе, профессором в университете, он все равно старается так или иначе передать свои знания, свой опыт близким: надоедает советами детям, жене-мужу, друзьям-подругам, сотрудникам, соседу в поезде… Человек постоянно пытается формализовать свой опыт таким образом, чтобы его можно было передать другим. Но чтобы передать опыт, необходим тот, кто готов выслушать, прочитать и принять – музыку, стихи, нравоучения, исповедь, советы, пожелания… Формализовать опыт, чтобы он был понятен другим, – чрезвычайно сложное занятие. В русской культуре князь Курбский в переписке с Иваном Грозным и протопоп Аввакум – это, наверное, самые выдающиеся советники, понять которых очень трудно, поскольку они использовали свой личный язык, непонятный большинству. Помимо желания нравоучения, у человека есть еще одна особенность, которая роднит нас с животными.
Культура помогает нам передавать знания. Но Курбский и Аввакум смогли передать знания вне культуры, и тут работает второй уровень культуры, перевод, когда можно «перевести на современный язык» то, что писали знаменитые предки.
Это очень важная роль культуры. Пройдет 500 лет – и все равно рано или поздно поймут, что ты говорил. Люди писали свои письма, дневники свободно, хотя мы должны и в наше время понимать, представлять их чувства.
Переводчик – это червь, который использует тебя, когда ты умер.
Самое главное для человека, чтобы его никто не трогал. Это такое животное чувство в нас. Затаиться. Оказывается, что добиться, чтобы тебя никто не трогал (на животном языке – не угрожал съесть) – самое сложное. Но труднее достичь, чтобы не трогали так, как ты не хочешь. Мир все же устроен таким образом, что легко избежать одного способа, но невозможно игнорировать все возможные методы. Значит, надо смириться, что другие люди тебя трогать будут. И это самое интимное и интересное в жизни. Персонализм размышляет о том, как, почему и зачем мы вынуждены сталкиваться с другими людьми, можно ли жить без этого и что нам дает прикасание других?
В книгу включены две работы, написанные в разное время, в которых автор размышляет, как примирить человека с самим собой, поскольку сделать это можно только посредством других, не всегда приятных людей. Как их принять, оставаясь самим собой, даже не зная, кто ты сам?
Персонализм XX века
Персонализм был преимущественно религиозным и социалистическим. Даже примитивного агностического персонализма не существовало.
Персонализм не был какой-то философской доктриной, направлением в философии. Он являлся калейдоскопом личностей при всем уважении к тому, что сделали многочисленные школы персонализма попутно с классиками персонализма.
Николай Бердяев, русский философ, один из творцов русского религиозного возрождения, прожил вторую половину жизни во Франции и был самым ярким персоналистом, хотя его и причисляют к экзистенциалистам. Работа Бердяева «Смысл творчества», изданная в 1916 году, не оказала большого влияния на культуру, но подействовала на самого Бердяева, который остался приверженцем открытой им истины о значении творчества. Николай Александрович говорил о творческом начале в человеке так восторженно и увлеченно, словно стоял на цыпочках. В этом он был скорее экзистенциалист, который вслушивается в свои страхи и заботу. Персоналист не стоит на цыпочках. Естественно, Бердяев всегда говорил об истине: «Цель философского познания совсем не заключается в познании бытия, в отражении в познающем действительности, – цель – в познании истины, в нахождении смысла, в осмысливании действительности»; «Где же искать критерий истины? Слишком часто ищут этот критерий в том, что ниже истины, ищут в объективированном мире с его общеобязательностью, ищут критерий для духа в материальном мире»; «У Фихте индивидуальное “я” лишь часть великого целого. Личность исчезает в созерцании цели. “Я”, с которого Фихте начинает свой путь философствования, не есть индивидуальное “я”. Для него индивидуальный человек – инструмент разума. В этом Фихте отличается от Канта, единственного из великих идеалистов в германской философии, который был близок к персонализму. Гегель – самый крайний антиперсоналист. Думать для него значило привести в форму универсального… Также антиперсоналистом, хотя и по-другому, был Шопенгауэр. Немецкий идеализм пожертвовал душой для абсолютного духа. Философия абсолютного духа началась с провозглашения автономии человеческого разума. Она кончилась отрицанием человеческой личности, подчинением ее коллективным общностям, объективированным универсалиям» (Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995. С. 186, 188).
Эммануэль Мунье, французский персоналист, социалист, католик, издавал с 1932 года журнал Esprit, вокруг которого объединились единомышленники, в 1936 году опубликовал классический труд «Манифест персонализма». Мунье придал персонализму публичность, узнаваемость. С подачи Мунье персонализм раскрасился, как пасхальные яички, как рождественские лампочки и гирлянды. Все, кто интересуется персонализмом, в первую очередь должны прочитать манифест Мунье, в котором он общается с молодежью как близкий и равный. «Мы называем персоналистским всякое учение, всякую цивилизацию, утверждающие примат человеческой личности над материальной необходимостью и коллективными механизмами, которые служат опорой в ее развитии»; «…для нас персонализм – это только общезначимый пароль, суммарное обозначение, подходящее для различных учений, которые, однако, в той исторической ситуации, в которой мы находимся, могут приходить к согласию относительно лишь элементарных физических и метафизических условий (возникновения) новой цивилизации. Таким образом, персонализм не заявляет об утверждении новой школы, открытии еще одной часовни, изобретении новой замкнутой системы. Он свидетельствует об общем волеизъявлении и, не касаясь имеющегося здесь разнообразия, ставит себя ему на службу, чтобы вести поиск средств, дающих возможность эффективно воздействовать на историю. Следовательно, мы должны бы употреблять множественное число, говорить о различных формах персонализма… Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы… определить совокупность первичных принципов согласия, которые могут стать основанием цивилизации, посвящающей себя человеческой личности. Эти принципы согласия должны в достаточной мере опираться на истину, чтобы…» (Мунье Э. Манифест персонализма. М.: Республика, 1999. С. 269).
Бердяев, Мунье, другие философы социалистического или христианского персонализма восклицали лозунги, утверждая, что человек богоравен, социален и только так нужно относиться к человеку и строить цивилизацию вокруг него, а не вокруг наживы, неравенства, денег, войн, торжества насилия над единичной личностью, как раньше до этого тысячелетия развивалась цивилизация. Можно возразить, что Человек богоравен не тогда, когда слаб и вопрошает «Боже, зачем ты оставил меня!», а когда силен (а человек силен всегда, как видно уже десять тысяч лет). Это считается ересью с точки зрения других мировых религий, но позволило христианству породнить человека с богом в русле древнегреческой традиции, Прометей вылепил человека из глины, Геракл после десяти подвигов стал бессмертным и равным богам человеком.
Папу Иоанна Павла II также можно смело назвать одним из великих персоналистов XX века. Он говорил: «Считают, что молитва – это беседа. В беседе всегда есть “я” и «ты”; в данном случае “Ты” пишется с большой буквы. Первоначальный опыт молитвы учит, что “я” здесь преобладает. Потом мы убеждаемся, что на самом деле всё иначе. Преобладает “Ты”, в котором берёт начало наша молитва».
Сказано абсолютно персоналистично.
Отдельно стоит Бертранд Рассел, математик, позитивист, агностик! Его мысли близки агностическому персонализму, но он жил в другую эпоху между двумя мировыми войнами, был социалистом, математиком, атеистом, хотя и называл себя агностиком. Вот что он говорил:
«– Кто такой агностик?
– Агностик считает невозможным познать истину в вопросах существования Бога или вечной жизни, с которыми связано христианство и прочие религии. Или, если это и не невозможно вообще, то, по крайней мере, не представляется возможным в настоящее время»[1 - Рассел Б. История западной философии. СПб.: Академический Проект, 2009.].
С этим согласится персоналист, хотя и поправит, что вместо слов «считает невозможным» лучше говорить «не считает возможным»… Вера должна корениться в убеждениях. Однако при равных убеждениях вера может быть разная.
С чем не согласится персоналист, так это с Расселом, который говорит об агностике и называет его «он»: «Что касается греха, он (т. е. агностик) считает это понятие (греха) бесполезным. Он, агностик, разумеется, допускает, что какое-то поведение может быть желательным, а какое-то нет, но он считает, что наказание за нежелательное поведение может быть лишь средством исправления или сдерживания; оно не должно налагаться лишь постольку, поскольку зло, само собой разумеется, должно страдать. Именно эта вера в карательные меры и привела к возникновению ада. Понятие греха принесло много вреда, в том числе и это».
Понятие греха можно использовать во вред человеку: манипулировать человеком, используя греховность и все, что связано с этим: поведение, убеждения, культуру, пищу, одежду… (Проще, конечно, манипулировать чем-то искусственно возвышенным, что так или иначе выросло в человеке).
Достоинство христианства в том, что за две тысячи лет понятие греховности стало внутренним неискоренимым убеждением христианина, а не повиновением внешним требованиям. Это, возможно, единственная мировая религия, которая не требует, чтобы верующий хоть чем-то отличался внешне от неверующего. Данное неформальное требование, которые было принято всеми, сформировало огромные преимущества убеждениям, поскольку никакая иная религия даже близко не подошла к решению основных вопросов, которые беспокоят верующих. Конечно, служитель культа всегда отличался внешне от прихожанина, но верующий от неверующего в обыденной жизни не должен отличаться, иначе… Мы знаем, что может произойти.
Многие приняли новое верование и готовы были, скорее, жить рядом с христианами, чем в другом мире. Понятие греха – это краеугольный камень в развитии мира. Если бы не было этого краеугольного камня – понятия и осознания греха, постоянного размышления и оценки – мир был бы сейчас другим. Понятие греховности – ключевой момент в христианской цивилизации, об этом думали миллиарды людей последние 2000 лет. Мы можем только воскликнуть «Браво!!!» тем, кто не забывал о греховности и не стесывал это понятие до размера зубочистки или палочек для еды.
В работе «Счастье и грех» (Игорь Сохань. Счастье и грех. СПб.: Алетейя, 2014) автор сравнивал путь жизни человека, который считает себя греховным относительно своих координат греховности, с жизненной дорогой тех, кому нравится считать себя безгрешными. Понимание греха важно для человека. Если не копаться каждый день в своих грехах, а жить как лунатик, не на этой Земле, а на вымышленной, никому-больше-ненужной, нет и не может быть никакой связи человека с человеком. Только подспудное понимание нами нашей греховности позволяет нам хоть как-то общаться друг с другом и относиться один к другому как человек к человеку. Только грех и понятное всем значение греха – общее между нами. Любить можно свою собаку или лошадь, и в этом нет ничего общего. Любовь к ближним, как она нашла выражение в XX веке, социальность, «социалистичность» создали «поколение безгрешных» (см. «Счастье и грех»), когда человек при всей своей естественной природе Достоевского попытался показать всем, что может жить как романтик Новалис, как «грустный добрый Байрон», как будто возможно невозможное и мы все, понимая категорический императив Канта, имеем мужество постоянно всю жизнь придерживаться, воздерживаться от плохого и нехорошего, о чем писали Фрейд, Ницше и даже не только Достоевский, а также гуманист Лев Николаевич Толстой в повестях «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича».
Человек грешит постоянно, что бы он ни делал: даже если не курит, не пьет и не увлекается плотскими радостями, он все равно грешит, живя согласно своей природе, и изменить это не может. Все, что человек может, – это закрыть глаза и придумать, как нужно успокаивать себя, твердя «Я хороший, я хороший, я хороший».
Поскольку персонализм не стал канонической философией, мы вправе говорить о нем неформально, как о том, что рождается.
Цель данной работы – возродить интерес к персонализму.
Соответственно нашему времени, мы будет говорить о персонализме без привязки к каким-то конфессиональным или политическим пристрастиям, то есть будем обсуждать агностический персонализм. В этом есть своя правда, поскольку ребенок начинает познавать мир еще в чреве матери, когда у него нет определенных религиозных и политических предпочтений, хотя он уже личность, возможно, на пятом месяце эмбрионального развития слышит звуки, запоминает их, работает руками и ногами и порой чувствительно досаждает матери.
Персонализм – это вопросы, которые мы задаем о самих себе, и наши ответы себе.
«Чем человек отличается от других?»
«Что в нем хорошего?»
«Что человеку нужно?»
Почему, например, относительно пингвинов (социальные птицы водоплавающие, но не летающие) нельзя сказать, что они персоналисты, почему волки не персоналисты, хотя живут стаями, почему, наконец, обезьяны не персоналисты, хотя очень социальны? Персонализм соткан из недостатков, которые порой не осознаешь. И эти недостатки, кощунственные для многих, как раз и формируют «настоящий персонализм», то, что в тебе больше всего тебе нравится.
Столько недостатков, сколько накопилось внутри «человека», нет ни в каком ином существе и природе в целом. У человека плохой нюх, плохое зрение, плохой слух, он медленно бегает, его нужно учить плавать, он не видит в темноте, у него нет подшерстка, и он зябнет или потеет при малейшем колебании температуры. По всем основным природным параметрам любой взрослый медведь более развит, чем любой человек. Это не главные недостатки человека, которыми он отличается от другого. Человек – существо социальное, и столько зла, сколько может причинить другим человек, никакое иное существо не способно сделать. Даже медведь, учитывая все его природные достоинства. Культура как раз направлена на то, чтобы предложить тот или иной вариант объяснения, почему человек не пингвин и не медведь, и сгладить природные недостатки человека. Философия, выдуманная человеком, объясняет так или иначе, почему мы не смогли по природе своей познать истину, чтобы следовать ей, как природа в каждом организме следует природной истине. Персонализм – это философия человека, который ни с кем не спорит, даже с самим собой. Только думает об этом, о самом себе, разговаривает с самим собой, понимая, что никому объяснить ничего не сможет, а посредством насилия как «самого верного способа доказательства» не убедит никого, поскольку никто в мире не может добиться того, что хочет. Достигая того, что хотел, разочаровываешься… Удовлетворившись, «начинаешь продолжать хотеть».
Говорят, истина рождается в спорах. Если отталкиваться от «споры», то споры порождают споры. Истина рождается в другой среде. В какой? Никто не скажет. Предположим: размышления в тишине текущего времени, беседа с друзьями.
Необходимы столетия, возможность израсходовать поколения, чтобы принять очевидные истины, которые потом вдруг время смывает, как дождь или морской прибой детские рисунки на песке.
Мысль – это самое вечное и самое недолговечное в мире.
На базарной площади простой человек всегда будет изрекать то, с чем будут согласны миллионы.
Не знаю, думает моя собака или нет, но говорить нам не о чем, хотя я ее люблю, мы все время рядом. Она приспособилась ко мне, я привык к ней. Но я не чувствую духовной близости с моей собакой, подобной духовной близости с друзьями юности, с которыми до сих пор продолжаю разговаривать в душе, спорить, как много лет назад. Я не беседую с моей собакой так, как с другом.