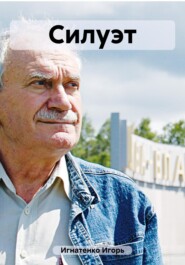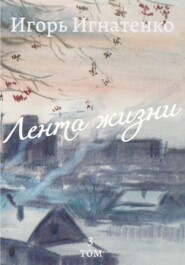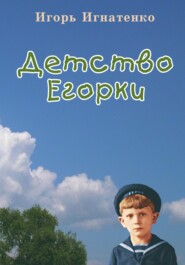По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лента жизни. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И кинулся на улицу. В желтом свете лампочки остаток очереди пропустил его, словно он и впрямь уже купил хлеба и отправился домой.
На дороге лишь чернели котяхи. Здесь вряд ли он мог оброниться. Скорее всего, это случилось вон там, в примятом сугробе, куда его толкнул Дробя. Ванька упал на коленки, силясь разглядеть в потемках пропажу, потом начал разгребать сугроб голыми руками, всхлипывая и причитая:
– Ну, где же они? Покажитеся… Отыщитеся… Че я мамке скажу-у?..
Через несколько минут он понял, что если пропавшие рубли действительно и были здесь, то теперь он их своими руками закопал так, что и днем с огнем не сыщешь.
Ванька взвыл волчонком и неизвестно зачем побрел опять в магазин, ни на что не надеясь. Не идти же домой за мамкиными колотушками?
Его пропустили, чуя идущую от Ваньки горестную напряженность и заразительное отчаяние. Навстречу вывалились один за другим дружки. Борька, жуя довесок, поинтересовался:
– Не нашел?
Ребята сообразили, почему отлучился Ванька. Такая беда случалась порой кое у кого из приходивших за хлебом. Теперь утрата посетила и их компанию.
– Хлопцы, давайте копейки соберем, – предложил Лешка. Мальчишки стали скрести по карманам, выгребать сдачу. Набралось семьдесят шесть копеек – почти на полкилограмма черного хлеба. Ванька молча взял холодные монеты, сжал в кулак и прерывисто вздохнул. В груди даже клокотнуло что-то.
– Иди, – шепнул он еле слышно Лешке. – Я догоню…
Толкаться и доказывать, что он стоял впереди, Ванька не стал. Спешить было некуда, как не на что было и надеяться. Он провожал глазами каждого покупателя, следил, как продавщица смахивает с полки одну за другой буханки оставшегося хлеба, режет «мессером» самые крупные, крошит довески. У печки, где прислонился Ванька, было так тепло, так угревно, что не верилось в случившуюся беду. Все казалось сном, думалось: щипни себя сейчас покрепче – и проснешься с рублями в кармане. Ванька и руку приподнимал – щипнуть себе щеку, но тут же отдергивал, стыдясь людей. Утирал нос, шмыгал вполголоса. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», – припомнилась ему любимая поговорка покойной бабушки Степаниды. Она чаще всего повторяла ее, когда случалось наставлять чему-либо внука. Ста рублей у него и так не было, а друзья ушли, оставив сдачу. Пуще всего боялся теперь Ванька возвращаться домой с пустыми руками. Но на полке еще оставалось несколько буханок.
Наконец и последний покупатель – девчонка лет десяти, худенькая, с носиком-пуговкой и глазками-бусинками, Верка Золотарева с инкубаторной станции – взяла свой хлеб, спрятала в холщовую сумку и хлопнула дверью.
Клавка-продавщица смахивала с прилавка крошки большой чистой тряпкой в подставленную тарелку. Набралась порядочная жменя. Потом ссыпала крошки в пакетик, сунула под прилавок. Устало распрямилась, со стоном потянулась всем телом в синем, не первой свежести халате. Поправила на голове козьего грубого пуха шалюшку. «Наверное, для курей, – догадался Ванька. – Покормит хлебными крошками – яички снесут…»
– Ты чего тут у печки застрял? – заметила Клавка мальчишку. – Никак Крюков? Ну да… Ваня… А глаза чего на мокром месте? – приглядевшись внимательнее, спросила она грубоватым голосом, в котором, однако, почудились Ваньке обнадеживающие нотки. – Иди, иди сюда… Да оторвись ты от печки!
Мальчишка несмело подошел к прилавку и протянул молча тетке Клаве слипшиеся в кулаке монетки.
Как опытный следователь, тетка вмиг оценила ситуацию.
– Значит, посеял денежки? Отец зерно сеет, а ты рубли… На сколько тут у тебя выходит? – Она сочла монеты. Побрякала костяшками на счетах. – Четыреста семьдесят пять грамм выходит…
Точные цифры особенно смутили Ваньку и вновь повергли в состояние глубочайшего уныния. Очевидно, на его лице была написана вся картина переживаний. Тетка Клава ребром ладони подвинула по вылосненному до глянца прилавку Ванькины деньги.
– Разве на столько вашу семейку накормишь? Килограмм до ужина сметаете, небось… Она нагнулась под прилавок, достала черную дерматиновую сумку. Дернула замок-«молнию», заглянула туда, пошуровала внутри, принахмурилась.
– Вот же оглоеды! Мамкино горе. Все бы им играть… Нет на вас управы! – произнесла она в пространство, обращаясь не столько к Ваньке, сколько к кому-то вообще, кто откуда-то сверху, незримый, наблюдает за происходящим.
Потом тетка Клава достала из сумки буханку белого хлеба. На ее место положила буханку черного, предварительно взвесив и откромсав уголок до ровного килограмма.
– На, бери! – протянула она белый хлеб Ваньке. – Скажешь Ульяне Карповне, что я в долг дала. Завтра вернешь… Давай сумку.
Засунув в сумку хлеб и вручив его Ваньке, добавила напоследок:
– Отец пусть за ремень-то не хватается. Разве ваша вина, что впотьмах за хлебом ходить приходится?
– Спасибо, тетя Клава… – насмелился наконец Ванька произнести требуемые слова благодарности.
– Как учишься? – переменила вдруг тетка Клава тему. – В шестом или в седьмом?
– В шестом… На четверки, на пятерки, – ответил Ванька. Потом спохватился и добавил: – Пятерок больше. Я читать люблю…
– Эх, ты… читатель!..
Тетка Клава шумно вздохнула.
– Ну иди, иди. Мне закрывать надо. Мамке привет передай, не забудь. Мы с ней ведь одноклассницы были когда-то. Не чужие. Папке тоже поклон… хлеборобу-ударнику. Они ведь с моим Василием в одной бригаде работают, рoстят вот этот самый… – она мотнула головой в сторону опустевших хлебных полок.
Ванька благодарно засопел оттаявшим носом. Подхватил с прилавка свою сумку и потопал к выходу.
На улице в лицо ударил холодной снежной крупой еще сильнее покрепчавший утренний ветер. Восточная кромка неба просветлела слегка, и в этой белесой глубине стали тонуть и гаснуть одна за другой дрожавшие, словно тоже окончательно зазябли в космической стыни, звездные пригоршни.
Сегодня дома будет белый хлеб!
И Ванька кинулся догонять Лешку, хотя понимал, что вряд ли успеет. Слишком уж он задержался нынче в магазине.
2003
«Рацуха»
– Ребя! Айда вагонетки гонять! – заталкивая ополовиненную бутылку с молоком в сумку, первым подал идею Железа.
– Чур, я бронепоезд! – заявил сразу же Дрoбя. Это значило, что Лешке, Ваньке и тому же Борьке Железниченко доставалась участь быть паровозами беляков, чья задача заключалась в том, чтобы настичь беглеца и, по возможности, сшибить его с рельсов.
В обеденный перерыв на «кирзухе» – кирпичном заводе – жизнь замирала. Штатные рабочие расходились по домам хлебать супы да борщи. Ну а летние подработчики, наскоро управившись со своими «сидоркaми», принесенными из дому, коротали полуденный час за различными забавами, которых при мальчишеском воображении с лихвой хватало на оставшиеся минут пятьдесят.
Вылазить на солнцепек из амбарного тенька не очень-то и хотелось. Хотя одеты все были на один манер, по-летнему. На головах – кепки-восьмиклинки, только у Лешки – тюбетейка с расписными вензелями. В амбарной прохладе головные уборы обычно сбрасывали на специально для того освобожденную от кирпичей полку стеллажа, куда ставили свои сумки с провизией. На загорелых дочерна телах – майки одинакового магазинного фасона, обесцвеченные тем же солнцем. О шароварах разговор особый. Черный сатин, из которого пошивались эти важнейшие предметы мальчишечьего туалета, украшали у кого заплатки, а у кого и прорешины. Особенность же шаровар состояла исключительно в ширине напуска. Чем больше материала болталось пузырем у щиколоток, тем фасонистее они выглядели в глазах владельцев казацкой одежки. На сей счет не было равных Борьке, которому мать собственноручно скроила, сметала и сшила шаровары не хуже, чем у запорожского казака. Обувка тоже не отличалась разнообразием. Ванька Крюков носил кожаные тапочки, которые мать купила ему в мастерской потребсоюза. У остальных были синие тапочки-волейболки на резиновом ходу, продававшиеся по весне в раймаге. Вообще-то дома и по деревне мальчишки предпочитали бегать босиком, но на заводе эта вольность оказывалась невозможной из-за необходимости ходить зачастую по осколкам битого кирпича, в изобилии усеивавшего территорию. В обжиговую печь вообще без сапог-кирзачей не суйся. Впрочем, по малолетству нашим героям участвовать в завершающей стадии процесса изготовления кирпича не доводилось. Расценки на обжиге самые высокие – что повременные, что с выработки. Зато нужны мастерство и мужская сила, плюс «дюжилка», то есть выносливость. Ни того, ни другого, ни третьего нажить пацаны пока не сумели, понятное дело. Сшибали свой «рупь» на штабелевке и просушке кирпича-сырца.
Свободные вагонетки жарили бока в заросших высоченной полынью тупиках, и поневоле пришлось натягивать на стриженые макушки кепки да тюбетейки, иначе по мозгам шибанет – и не заметишь, как говаривал заводской сторож дед Курило, досматривавший за пацанами из старческой назидательности. Но сегодня и дедушки не видать, схоронился где-то в амбарной прохладности и дремлет себе вполуха.
Толян Дробухин первым поскакал в тупик, и правильно сделал, так как более-менее исправные вагонетки были задействованы на вывозе кирпича-сырца от пресса к дальним амбарным стеллажам. В полынной духоте покоилась под открытым небом такая ржавая рухлядь, что ей самое время пойти в металлолом, в чем и помогали ребячьи игры. Особо выбирать не пришлось. Жарко задышав кривоватым, с горбинкой, носом, сломанным здесь же прошлым летом, когда на него с верхней полки стеллажа хряпнулся плохо уложенный кирпич-сырец, Дробя ухватился за крайнюю вагонетку и вытолкал ее на раскаленную рельсовую колею, упираясь ногами в пропитанные креозотом шпалы.
За ним налетели остальные воины. Борька кряхтел у застрявшей лежа на боку ближайшей вагонетки. Пришлось помогать поставить ее на колеса, ибо полтора центнера железа, каким бы ржавым оно ни было, это все-таки те же самые сто пятьдесят кэгэ, которые в их селе покорялись одному только Ивану Краснослободцеву. Но то Иван, первый деревенский силач, штангист, а заодно и директор кирпичного завода. Он тут наупражнялся будь здоров!
Маломощным отрокам пришлось утроить свои силешки. На помощь рослому крепышу Железе подоспели низенький, похожий на колобок Леха Селиванов, а за ним худой и не в меру длинный Ванька Крюков. Сообща крякнули, поплевав по-мужицки на ладошки, пукнули от натуги – и водрузили вагонетку на колеса. Поставить ее затем на рельсы было гораздо проще. Подкантовали транспортное средство к рельсам, завели одну пару колес на рельсы, потом подважили бревнишком из штабеля, приготовленного для замены сгнивших шпал – и другую пару поставили на место. Вагонетка, худо-бедно, утвердилась на позабытой ею стальной колее. Следом подобную операцию проделали для «паровозов» Лешки и Ваньки.
Тем временем «бронепоезд» Дробухина угрохотал по стыкам на безопасное расстояние. Тактика игры заключалась в том, чтобы достичь ближайшего поворотного круга, заехать на него и не соскочить при этом с рельсов. Дальше надо было не мешкая определить наиболее безопасный маршрут по лабиринту заводских рельсовых развязок, чтобы не наткнуться на груженые вагонетки. Обычно на них возили кирпич-сырец до самых дальних складов. На ближние сушильные сооружения от пресса тянулись ленты транспортеров, вот там-то рельсы бывали, как правило, свободны.
Громыхающая кавалькада ржавых вагонеток, управляемая настырными пацанами, носилась за «бронепоездом» до тех пор, пока кому-то не удавалось или настичь беглеца на открытом перегоне, или так сманеврировать на поворотном круге, чтобы зайти в лоб противнику. Тогда случалось главное, ради чего и затевалась игра. Вагонетки сталкивались со страшным скрежетом и громом своих пустых емкостей. Задача игроков состояла в том, чтобы не прозевать момент столкновения и отпрыгнуть в сторону. Видимо, над мальчишками постоянно витали их персональные ангелы-хранители – до увечий дело пока не доходило, а мелких ссадин и синяков никто не считал.
Получаса обычно хватало на эту забаву. Затем вагонетки снова заволакивались на рельсы и тихим ходом, – как говаривал начитанный Борька, «товарной скоростью», – возвращались и дальше ржаветь под открытым небом на задворки заводских путей.
Сегодня сражение закончили пораньше, оставалось еще полчаса до гудка. Да, да, на заводишке, каким бы неказистым ни выглядело это производство местного красного кирпича, рубежные временные отрезки обозначались гудком. На сей счет в котельной, работавшей круглосуточно и круглогодично ради нагрева воды, подаваемой к глиносмесительному прессу, придуман был сигнальный прибор. Стоило механику Стамбулычу дернуть веревку, свисавшую с патрубка на хребтине котла, – и заводские окрестности оглашались хрипловатым сипением, вызываемым прохождением пара через трубку с особой на то дырочкой. Назвать этот звук гудком было сложно по причине его шепелявости и относительной маломощности. Но, раз гудок, значит, гудок! Директор Краснослободцев считал, что традиции воспитывают юных рабочих завода. Ну а штатные ветераны, за неимением часов, отмеряли гудком отрезки суток.
В летнюю пору завод работал круглосуточно, в три смены. Основная смена начиналась в семь утра и заканчивалась строго в шестнадцать ноль-ноль. Вечерняя и ночная смены были покороче на полчаса каждая. Работали в них взрослые штатники, и главным образом на прессе. В эту пору сырым кирпичом забивались стеллажи ближайших складов. Основная работа разгоралась с утра – с приходом калымщиков-школяров и местного пролетариата, стекавшегося подзашибить живую деньгу на вечные свои нуждишки.
Четыре часа первой половины смены и катание вагонеток утомили ребят. Что ни говори, а у худобоких пацанов не только силешек, но и терпежки не скопилось еще в достатке. Лешка и Ванька подались под амбарную крышу. Забросив соломенные маты, которыми занавешены были от солнца решетки стенных пролетов, на самую верхотуру стеллажей, куда по причине своей малорослости кирпичей не наложили, они полезли покемарить чуток в прохладе. Хорошо вытянуться на скользкой, остужающей ребрышки соломке! Косточки похрустывают, хрящики пощелкивают – рост свой обозначают.