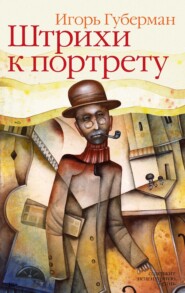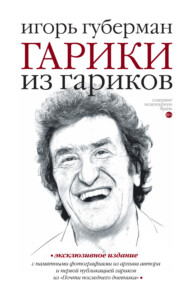По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проза о неблизких путешествиях, совершенных автором за годы долгой гастрольной жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из Красноярска мой путь лежал далее на восток – в Иркутск, Благовещенск, Хабаровск.
Давно уже заметил я, что знаменитые слова талмудического мудреца Гилеля «Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?» частично относятся к выпивке, так что в поездах с первой минуты ощущаю эту мудрость как неотложное житейское попечение.
Виски я прихлебывал из чайного стакана и на перекуры в тамбур уносил его с собой. Уж больно памятные за окном текли места. Ближе к ночи рухнул, обессилев, и наверняка забыл бы напрочь эту половину дня, но обнаружил по возвращении, что в рубашечном кармане у меня был блокнот, в который закорючками (все неразборчивей от часа к часу) какие-то пометки заносились. Поэтому приблизительно могу восстановить, что со мной в том поезде происходило.
Как только поезд тронулся, в купе пришла к нам проводница взять билеты. Прочитав мою фамилию, она спросила утвердительно:
– Вы ведь писатель?
– Да, – кивнул я удивленно.
– Трудная судьба, – сказала она с пафосом осведомленности.
Тут я расхохотался, чем немедля потерял ее расположение. Но по купе соседним она явно что-то растрезвонила, и три или четыре человека то ходили со мной в тамбур покурить, то вежливо беседовали в коридоре.
Конечно, в Канске я изрядно заколдобился.
Сюда, в тюрьму, нас привезли из лагеря, чтобы наутро перебросить к месту ссылки. Я всю ночь не спал, и дрожь меня трясла, никак не мог поверить, что свободен буду завтра. А когда в автобусе везли нас (девять или десять человек), то и охранники (все четверо) приветливые были, и овчарки обе словно чувствовали в нас уже не зэков: не рычали, на загривках шерсть не дыбилась – наверно, запах загнанности, страха и еще чего-то рабского в нас разом поубавился, а их натаскивали именно на этот запах. Я попросил у конвоира сигарету, и, протягивая мне ее, он снисходительно сказал:
– Что, блядь, волю почуял?
Узловая железнодорожная станция Решоты на Транссибирской магистрали, участок Красноярск – Тайшет.
Здесь когда-то был один из самых крупных по империи пересыльный лагерь. В нем умер дед моей жены. Знак своей обреченности он на визитной карточке упрямо сохранял уже при советской власти: «Граф Борис Дмитриевич Толстой». Много сотен тысяч жизней утекло в никуда сквозь эти Решоты. А стоянка поезда – одна минута, крохотная станция.
Потом есть запись лаконичная: «Что уцелел – Испания». И я вспомнил чувство, всю дорогу переполнявшее меня. Куда-то за окно, в унылое пространство это мне хотелось то ли крикнуть, то ли прошептать, что жив я, уцелел, в пространстве этом гиблом побывав, и вот я еду мимо, пью любимый свой напиток и курю, а завтра буду веселить огромный зал стишками личного изготовления.
Про Испанию тогда я вспомнил не случайно.
Годом раньше мы с женою Татой были в этой стране на экскурсии. И в городе Гранада, убежав на час от нашей группы, мы пошли в усыпальницу короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Там красиво, интересно и величественно – нет слов, но я туда поплелся не за красотой и интересностью, а утолить свою мечту пришел туда. Дождавшись, когда рядом не было туристов, я на купол усыпальницы кинул две монеты по шекелю. Чтоб Фердинанд и Изабелла знали, что евреи, некогда навеки изгнанные ими из Испании, не просто уцелели, но и собственной страной обзавелись. Уверен был почему-то, что такая весточка до них дойдет.
С похожим чувством предопределенности ответа на возможные вопросы я реагировал в Сибири на вопросы здешних жителей. На фоне тамошних не поддающихся осмыслению просторов.
Вот с каким-то я беседовал интеллигентом в тамбуре, почему-то речь о Сахарове шла. Наверняка был задан вопрос, был ли я знаком с этим великим человеком. Давно уже сталкиваюсь с повсеместной убежденностью смешной, что все, с режимом несогласные, друг с другом тесно сообщались, мыслями делясь и общую отвагу стимулируя. Сам когда-то огорчен был, от кого-то услыхав, что ни Сахаров, ни Солженицын не питали начисто расположения взаимного и не хотели видеться совсем. Но этот собеседник рассказал мне байку дивную. Что будто бы, когда академик находился в ссылке в Горьком, в квартире, где он проживал с женой, что-то приключилось с водопроводом, а не то – с канализацией. И вызвали они знакомого сантехника. Тот повозился, что-то починил, а после сокрушенно сказал Сахарову:
– Больше ничего не сделаю, Андрей Дмитрич, тут надо всю систему поменять.
И будто бы ужасно восхитился академик совпаденьем с собственными мыслями и на всю квартиру закричал:
– Ты слышишь, Люся?! Даже Валера полагает, что менять необходимо всю систему!
После этой байки я, скорей всего, и обнаружил, что давно уже весь пепел стряхиваю в виски. Впрочем, тот исправно оседал.
А вот тут рядом и стишок. Должно быть, мой, поскольку правлен в паре мест:
В стране серпа и молота
живу и тихо вою,
другие моют золото,
а я и ног не мою.
Все мысли мои – лагерные были, я уверен, только записи уже пошли и вовсе как шифровки. Взором мысленным, изрядно подогретым от количества испитого, я всюду видел трофические язвы бывших зон, особо изобильных в этом крае. А если поточней сказать, употребляя лексику физиков, – те черные дыры, сквозь которые навеки утекла значительная, лучшая – поскольку мыслящая и активная – часть российского народонаселения.
Нет, в таких высоких терминах не думал я, торча возле окна, но размышлял о лагерях, по их территориям едучи, – все время, неотрывно, словно под гипнозом находясь. Да и прочитанное давало себя знать. Не зря о лагерях так мизерна литература нынче – отравляться знанием о днях вчерашних никому сегодня неохота, я-то просто много раньше отравился.
Я, кстати, в этих поездах еще и потому тюрьму все время вспоминал, что снова часами вынужденно слушал радио. Господи, за что ж такое вешают на уши россиянам! Эту бодрую, бездарную, нахрапистую пропаганду не выражу словами, но ее отравность – безусловна. Где-то около Иркутска (ехали уже мы долго) я даже стишок об этом написал – нескладный, злобный, но по делу:
В России все отнюдь не глухо,
уже на Данию похоже:
там жертве яд вливали в ухо,
здесь научились делать то же.
В аду, подумалось, среди пыток-наказаний непременно будет круглосуточное радио, а так как там деления на сутки нет, то – вечное.
После Иркутска сразу и заметно участились разговоры о ползучем и безостановочном нашествии китайцев. Их число уже никак не опускалось ниже миллиона и заметно вырастало у энтузиастов этого грядущего порабощения. И многие из этих натекающих пришельцев благодаря феноменальному, забытому в России трудолюбию уже достигли процветания. Что раздражает, как известно, граждан России куда сильнее, чем любые личностные недостатки.
И еще одна забавная прозвучала нота – услыхать такое от хотя и местного, однако же еврея я никак не ожидал. Но очень, очень пожилой мой соплеменник удрученно поведал, горестно стуча ладонью о худую грудь в районе сердца:
– Вы меня в квасном патриотизме ведь никак не заподозрите, ведь правда? Но когда я вижу, как китаец со своим товаром к нам на городской приходит рынок, а тележку с этим его грузом позади него везет наш русский алкоголик, у меня вот тут делается горько!
То, как он выговаривал букву «р», делало эту печаль особенно впечатляющей.
В городе Благовещенске приснился мне замечательный сон. Я с утра решил пошляться по городу, сообразил, что до концерта запросто смогу отоспаться, и прихватил с собой фляжку с виски.
Первый глоток я сделал еще в гостинице. Для начала вышел я на берег Амура, глянул на роскошный китайский город через реку и покурил под триумфальной аркой, некогда воздвигнутой здесь в честь посещения города цесаревичем Николаем, когда он совершал кругосветное путешествие и возвращался из Владивостока в свой Санкт-Петербург.
Я об этом путешествии и знать не знал, но все было написано на арке. Ее восстановили недавно, при советской власти ей стоять не полагалось, но смотрелась она очень симпатично, и под ней я выпил снова и недолго покурил.
Неподалеку на каком-то длинном, амбарного типа здании висела мемориальная доска в честь Чехова – он тут пробыл один день по дороге на Сахалин. Не помянуть Антона Павловича было бы грехом непростительным. На той же площади, на каком-то роскошном старом здании бросалась в глаза большая мраморная доска в память о купце Чурине, и сбоку на доске отдельной пояснялось, что купец этот снабжал продовольствием не только ближние окрестности, но чуть не до Аляски простирались его лавки и магазины. Помянув двумя глотками неизвестного мне раньше Чурина (поскольку был он еще и выдающимся меценатом), я побрел по набережной, чувствуя озноб от ноябрьского ветра, и немного выпил возле памятника графу Муравьеву-Амурскому, который в середине девятнадцатого века был губернатором Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для России сделал Николай Николаевич и вправду много – это он превратил Амур в российскую реку.
Здесь она была довольно неширокой, и в хорошую погоду, рассказали мне накануне, было слышно, как поют китайцы в расположенном напротив цветущем городе Хэйхэ. Благовещенцы туда мотались на пароме за дешевыми товарами. А Чурин это все им сам привез бы, подумал я и помянул еще раз даровитого купца.
В гостиницу я возвратился в некоем смущении от исторической недостоверности мемориальных досок, ибо наткнулся на такую в память о Надежде Константиновне Крупской, которая тут сроду не бывала. Может быть, это была школа ее имени? Или роддом, хотя у Крупской не было детей. Но почему-то именно домам родильным присваивают имена бездетных теток – Розы Люксембург, например. Или в Москве – все той же Крупской. Я на всякий случай почтил память обеих. И улегся спать, чтоб на концерте быть как стеклышко. Но тут мне и приснился дивный сон.
Я стоял под триумфальной аркой и смотрел, как по Амуру медленно причаливает к берегу небольшой белый кораблик. С него сошла группа людей, которые остановились, повинуясь мановению руки какого-то смутно знакомого мне человека, энергично пошедшего в мою сторону. Тут я почувствовал, что стою уже не один, и обнаружил слева от себя графа Муравьева-Амурского. В мундире с генеральскими золотыми эполетами, усами – чистый памятник, только оживший и стоящий по стойке «смирно». Я ничуть не удивился и справа обнаружил Чехова. Он почему-то был без пенсне и близоруко щурился – слегка растерянно, отчего выглядел подслеповатым учителем еврейской начальной школы.
А подходивший невысокий человек уже был ясно различим, и я узнал Николая Второго. Он был в какой-то непонятной мне военной форме, без фуражки и платком на ходу вытирал вспотевший лоб. «Простудится», – подумал я заботливо, без никакого благоговейного изумления. Подойдя к нам, цесаревич протянул руку Муравьеву-Амурскому и как-то запросто, приветливо сказал:
– Здравствуйте, тезка, самое смешное, что я только что был в Хабаровске на освящении вашего памятника.
– Ваше… – хрипло сказал граф, но Николай его досадливо перебил:
– Полноте, оставьте все формальности в покое. – После чего сухо, но учтиво мне кивнув, он пожал руку Чехову со словами: – Здравствуйте, Антон Павлович!
Я ничуть не огорчился, отчего-то ясно понимая, что живому человеку эта тень не может предложить рукопожатие. Чехов радостно улыбался, левой рукой вытягивая пенсне из верхнего кармашка сюртука. А Николай уже протягивал руку кому-то за моей спиной. Я обернулся: позади меня стоял высокий седобородый человек с очень простонародным симпатичным лицом. Он приветливо поклонился мне и тихо сказал:
– Чурин.
– Я узнал вас, – ответил я ему так же тихо, – я только что видел вашу мемориальную доску.