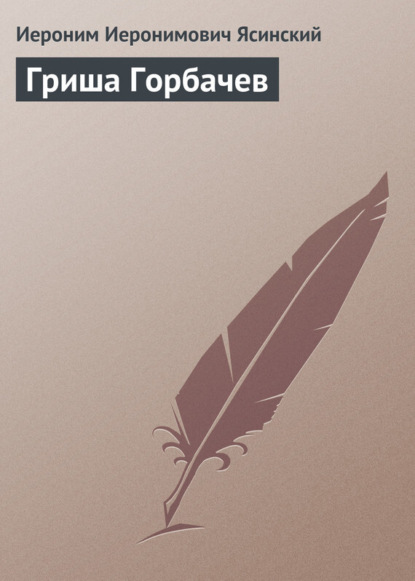По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гриша Горбачев
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А хвалю! если ты сын, моей утробой рожденный, и притом смеешь вопреки? Нет, ангел мой, не моги. Для чего я тебя родил, друг мой любезный? Для послушания.
– У тебя были сыновья, Степаныч?
Солдат долго молчал, ковыляя на деревяшке. Наконец он сказал:
– Два сына. Но как я находился на действительной службе двадцать пять лет, то своими их не признал по военной причине.
– Как так, Степаныч? – о улыбкой спросил Гриша.
– Всего вам знать нельзя. Больно молоды.
– Неужели, Степаныч, ты считаешь меня мальчиком?
Степаныч не взглянул на Гришу и переменил разговор.
– Клюет.
– Что клюет?
– Я говорю, гнедой пристал маленько. Привал сделаем на Сорочих хуторах.
До Яров оставалось еще двадцать верст. Отдохнув на постоялом дворе, тарантас пустился в дальнейший путь, и к двум часам он въехал в громадный двор, посреди которого возвышался красивый каменный дом под соломенною крышей. Это было имение Подковы, купленное им несколько лет назад с публичных торгов у дворян Мурзакевичей. Тарантас остановился у главного подъезда, на крыльце показались девчонки и бросились сносить вещи. Гриша взбежал по ступеням крыльца, и в передней его встретил толстый человек в затрапезном длиннополом сюртуке из летней шерстяной материи, сам Подкова. У него была седая бородка и прямые черные волосы, падавшие с одного бока на его красное расплывшееся лицо. Маленькие глаза ласково и плутовски сияли в жирных красноватых веках, и он улыбался, протягивая руку молодому человеку. Но, как он ни протягивал, все она была короче живота.
– Вам письмо, – начал Гриша.
– Хорошо, прочитаем. А скажите, благополучно ехали? Не устали с дороги? Есть хочется? Сегодня мы вас не ждали, и обед плохой. Но как, немного вы кушаете? Если немного, то бог нам поможет вас накормить. Пожалуйте, кстати, садится за стол.
– Дунька, что глаза выпучила? Что такое? А, макароны, свечи! Ардальон Петрович не из своего магазина отпустил? Товар у него дрянь. Неси Прасковье Ефимовне. Давайте, я вас обчищу. Ишь, пыль!
Он повернулся боком, чтобы не притиснуть молодого человека к стене, и стал рукой счищать пыль с его плеч.
– Славно и чисто. Живо, живо!
Подкова ввел Гришу в большую залу с богатым старомодным убранством. В раскрытые стеклянные двери виднелся балкон и сад. Другие двери направо вели в столовую, где был накрыт стол и поодаль, в ожидании главы дома, сидела на большом кожаном диване вся семья.
Она состояла из красивой чернобровой жены лет тридцати пяти и из двух дочерей – взрослой девушки, в которой Гриша узнал невесту Селезнева, и другой – подростка, темноглазой девочки с подрезанными вьющимися волосами и в коротком платье. Мальчик, лет пятнадцати, в затасканной гимназической блузе, поджав губы, с сосредоточенным видом прицеливался и ловил мух.
Семья о чем-то болтала, но с появлением Ивана Матвеевича все замолчали и встали с дивана.
– Колькин учитель… Как вас, позвольте узнать? Григорий Григорьевич? У меня брат в монахах, так тоже Григорий. Познакомьтесь: моя супруга, дочери, а вот балбес.
Он осенил себя широким крестом, поднял глаза к иконам, вздохнул и занял место. Жена села против него. Колька – рядом с подростком, которую звали Ганичкой, а Грише пришлось сесть возле невесты Ардальона Петровича. Девчонка, служащая у стола, торопливо поставила ему прибор.
Прасковья Ефимовна степенно спросила Гришу о городских новостях, об Ардальоне Петровиче, о папаше и мамаше. Прасковья Ефимовна лично их не знала, но справилась о них из любезности.
Иван Матвеевич ел с таким аппетитом, как будто он не обедал три дня. Обед был обильный, жирный. Подавали кашу с салом и яйцами, баранину с чесноком, кур с рисом и несколько сортов оладий. Квас и вино стояли в стеклянных кувшинах. Иван Матвеевич обтирал рот рукой. Глаза его потухали по мере того, как он насыщался. Лицо становилось багровым, и он только вздыхал. Вздох начинался тонким фальцетом – Иван Матвеевич точно захлебывался; вздох походил на клокотанье кузнечного меха и, наконец, как дыхание бури, вырывался из груди.
– О, господи, помилуй мя, грешного! – шептал тогда Иван Матвеевич, вперял пристальный взгляд в тарелку и, подождав, вновь принимался за еду.
Глядя на Сашу, нельзя было сказать, что ей еще нет шестнадцати лет; стройные формы девичьего тела уже начинали исчезать под наплывом наследственного расположения к полноте. Румяные щеки угрожали в скором времени превратить ее черные яркие глаза в две узенькие щелочки. Руки ее, белые как сахар, все были в ямочках, и на высокой шее обозначились складки: лет в тридцать у Саши будет не два подбородка, а три или четыре. Кисейная рубаха и красный сарафан придавали ей сходство с молоденькою кормилицей. Она сидела, потупив длинные, темные ресницы и стараясь, не поворачивая головы, рассмотреть быстрыми взглядами, бросаемыми искоса, приезжего молодого человека. Он уловил один из таких взглядов – она покраснела.
Кроме Ивана Матвеевича и Прасковьи Ефимовны, никто не возвышал за обедом голоса. Ганичка украдкой улыбалась сестре и тихонько смеялась в салфетку. Коля искусно поймал муху на плече у сестры и зажал в кулак, прислушиваясь к ее жужжанию.
– Григорий Григорьевич, после обеда не отдыхаете? – начал Подкова. – У нас сонное царство. Встаем мы ни свет ни заря, а днем сны видим. Дорога-то, я думаю, утомила!
– О нет, нисколько, – отвечал Гриша и подумал, что его гораздо больше утомил обед.
– Пока вам приготовят флигель, вы будете спать вгостиной, – сказала Прасковья Ефимовна. – Постель дадим хорошую.
– Как отдохнете, – продолжал Иван Матвеевич, – сделайте Кольке экзамен. А к занятиям – недельку спустя, Обвыкнете, соберетесь с силами – и жарьте. Я вам скажу, Колька – дубина. В кого только уродился!
Колька застенчиво улыбнулся, словно шла речь об его редких достоинствах.
– Сегодня я спросил: семьдесят да пятьдесят – сколько? А он – сто пятьдесят.
Застенчивая улыбка раздвинула рот Кольки до ушей, и он усиленно стал нажимать пальцем на стол. Муха освободилась из плена, покружилась над его головой и села ему на нос. Он опять поймал ее.
Прасковья Ефимовна проводила Гришу в гостиную, где стояла мебель, обитая желтым шелковым штофом.
– Ничего, что шелк, – смеясь, сказала Прасковья Ефимовна, – диван для спанья широкий и удобный; я все жду, когда истреплется штоф, потому что ненавижу желтый цвет. Это выдумка еще Мурзакевичей. Но что прикажете делать, нет сноса штофу.
Вслед за Прасковьей Ефимовной вошел в гостиную Иван Матвеевич, совсем сонный.
– Табак – курите. Ну, жена, уходи. Спать! Спать!
III
Гриша остался один. Он расстегнул чемоданчик и достал Льюиса. Через полчаса к нему должен был явиться Колька, а теперь мальчика отпустили побегать для пищеварения.
Солнце бросало в гостиную горячие лучи. Гриша спустил штору и сел в тени. Ветерок слегка колебал полотно. Но вдруг штора сильно сотряслась – кто-то ударил по ней веткой. Гриша приподнял край и увидел на террасе Сашу. Она держала длинный стебель ириса.
– Извините, я вас испугала, – негромко сказала она. – Вы читаете?
– Да.
– Я тоже люблю читать. Вчера всю ночь я читала «Доктора воров» Анри де Кока[3 - Кок Анри де (1821–1892) – французский писатель, автор бульварных романов.].
– Я не читаю романов, – сказал Гриша.
– Отчего не выйдете в сад? У нас все будут спать до пяти часов.
– Жду Колю. Он должен прийти.
– Он не придет. Я видела, как он верхом ускакал на водопой. Он никого не слушается, потому что мамаша его балует. Когда за ним накопится много шалостей, отец наказывает его. Но всего два раза в месяц.
– Следует обращаться иначе, – возразил Гриша. – Если Иван Матвеевич накажет его при мне, я уеду.
– У вас такое доброе сердце?