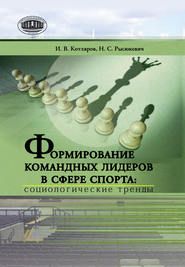По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Социология политических партий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Советская власть с каждым днем крепла. Борис Савинков писал: «Да, Россия разорена войной и величайшей из революций. Да, чтобы поднять ее благосостояние, необходима напряженная и длительная работа. Но большевики уже приступили к этой работе, и страна поддержала их. Лучший пример – Донбасс. Почему же предполагать, что белые работали бы быстрее? Мы ведь знаем, как “восстанавливались” Юг и Сибирь. Нет, возлагать надежды на белых, на эмиграцию, все равно что тешить себя легендой – легендой о полном финансовом и экономическом банкротстве большевиков. Власть, которая создала армию, разрешила сложнейший национальный вопрос и защищает русские интересы в Европе – русская, заслуживающая доверия власть. О разорении страны уже не может быть речи. Речь идет о восстановлении ее» [175].
Многочисленные враги Советской власти внутри России были вынуждены признать, что она оказалась намного сильнее, чем они думали раньше. Поэтому для уничтожения Советской власти необходимы серьезные усилия и целенаправленная и ожесточенная борьба всех антисоциалистических сил. Кроме того, в условиях перехода от одного качественного состояния общества к другому обострились многие внутренние противоречия. Это привело российское общество к середине 1918 г. к глубокому внутреннему расколу. Выделилось леворадикальное советское крыло (часть рабочих, деревенская беднота, сторонники Советов на окраинах), которые делали все возможное для победы социалистической революции. Ему противостояли политические партии, которые не считали необходимым социалистическое переустройство российского общества. Подавление оппозиции вело к тому, что дальнейшая политическая борьба стала развиваться в плоскости гражданской войны.
И это в условиях, когда антисоветские силы существенно выросли в результате поддержки их интервентами. В марте 1918 г. на севере, сначала в Мурманске, затем в Архангельске, с военных кораблей высадились британские, американские, канадские, итальянские, сербские войска. В апреле во Владивостоке высадились японские войска. Вслед за ними появились военные отряды Англии и США. К осени весь Дальний Восток был захвачен интервентами [21; 98].
После разгона Учредительного собрания В. Ленин на последующем заседании ВЦИК заявил: «Власть принадлежит нашей партии, опирающейся на доверие широких народных масс». Так был обозначен курс на однопартийную монополию в государстве.
Гражданская война обусловила необходимость введения чрезвычайных мер для решения многочисленных проблем, которые были вызваны правительствами стран, воевавших в Первой мировой войне. Они заключались в государственной монополии на важнейшие продукты питания и товары широкого потребления, их нормированном распределении, трудовой повинности, твердых ценах, установлении разверсточного метода отчуждения сельскохозяйственного продукта от сельского населения. Большевики превратили эти меры в методы утверждения диктатуры пролетариата. Была создана система управления армией и обществом в форме военных комиссариатов и «военного коммунизма».
В таких условиях РКП(б) стала «воюющей партией», стремящейся установить в стране однопартийный порядок. На VIII съезде РКП(б) (1919 г.) отмечалось, что РКП должна завоевать для себя безраздельное политическое господство в Советах и фактический контроль над всей их работой. К концу гражданской войны В. Ленин в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» пришел к выводу о том, что диктатура пролетариата возможна не иначе, чем через диктатуру партии. Советы, профсоюзы и другие организации должны были выполнять функции приводов от партии к массам [425].
РКП(б)/ВКП(б) в 1920-е гг. постепенно превращается из политической партии в особый социальный и политический организм советского общества. Политика по отношению к другим партиям характеризовалась крайней нетерпимостью, несмотря на то, что многие группы меньшевиков, эсеров, анархистов неоднократно заявляли о своем желании легализоваться и сотрудничать с большевиками в деле хозяйственного возрождения и социалистического строительства.
В данный период кризисные явления распространились и на партию. Это проявилось в острых разногласиях, расколовших РКП(б) по вопросу об отношении к профсоюзам и их роли в государстве диктатуры пролетариата, хотя тогда он не был главным вопросом партийной политики [21; 98].
Застрельщиком дискуссии и борьбы против В. Ленина, против ленинского большинства ЦК стал известный международный российский деятель, в то время «коммунист № 2» Лев Давыдович Троцкий. Он выступил на заседании коммунистов – делегатов V Всероссийской конференции профсоюзов в начале ноября 1920 г. с лозунгом о «завинчивании гаек» и «перетряхивании профсоюзов». Л. Троцкий выдвинул требование немедленного «огосударствления профсоюзов». Он был против метода убеждения рабочих масс и выступал за перенесение военного метода в профсоюзы. Троцкий был против развертывания в профсоюзах демократии, против выборности органов профсоюзов. Вместо метода убеждения, без которого немыслима деятельность рабочих организаций, троцкисты предлагали метод голого принуждения, жесткого командования. Своей политикой троцкисты, наделенные полномочиями руководителей профсоюзов, вносили конфликты и раскол, настраивали беспартийную массу рабочих против партии [192; 542].
Известный белорусский писатель и публицист Эдуард Скобелев в исследовании «Читая Троцкого» пишет: «Троцкий – одна из тех исторических фигур, которые еще при жизни тщательно накачивались славой: слишком велики ставки в политической игре, которую вела эта фигура, слишком многообразны связи, которые она выражала» [542, № 12, с. 32].
Тем временем в Советском Союзе постепенно начала формироваться однопартийная система, предполагавшая фактическое слияние государственных и партийных структур. Так, уже в ноябре 1917 г. Декретом Совнаркома России была объявлена вне закона партия кадетов. В 1918–1819 гг. целенаправленным нападкам подверглось руководство и актив октябристов, эсеров, а также большое количество меньшевиков. С 1917 г. по конец 1920-х гг. политические партии социалистической ориентации (максималисты, левые эсеры, анархисты) принимали активное участие в работе Советов депутатов различных уровней. Однако в начале – середине 1920-х гг. большинство из некоммунистических партий объявили о своей самоликвидации. С начала 1930-х гг. и вплоть до середины 1980-х любые попытки создания альтернативных организаций рассматривались как проявление антисоветской деятельности [138].
Уничтожив многопартийность, большевистская партия стала вести активную борьбу против различных мнений и в своих собственных рядах. Этот процесс, начавшийся в 1921 г., когда Х съезд партии запретил свободу фракций и группировок в РКП(б), был продолжен борьбой против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев (правых уклонистов), «рабочей оппозиции», группы Рютина и других оппозиционеров во второй половине 20-x – начале 30-х гг. прошлого столетия. Было полностью ликвидировано ленинское ядро в РКП(б). Начались репрессии против простых крестьян, которых называли кулаками, против интеллигенции, представителей некоторых национальных меньшинств.
Слова партийного гимна «Интернационал» «кто был ничем, тот станет всем» были восприняты слишком буквально: люди, которые еще вчера были «никем», сегодня из-за элементарной зависти отправляли зажиточных и работящих крестьян на Соловки, талантливых ученых – за границу. Л. Троцкий в известной работе «Как вооружалась революция» писал: «Вчера еще человек массы, он был ничем, рабом царя, дворянства, бюрократии, придатком машины фабрикантов. В крестьянском быту он был только тяглецом, плательщиком налогов. Сегодня, освободившись от этого, он впервые почувствовал себя личностью и начинает думать, что он – все, что он – центр мироздания. Он стремится взять для себя все, что может, думает только о себе и с народной классовой точкой зрения не склонен считаться. Отсюда – разлив дезорганизаторских настроений, индивидуалистических, анархических, хищнических тенденций, которые мы наблюдаем особенно в широких кругах деклассированных элементов страны» [192, с. 39].
Такой подход нанес огромный ущерб как Российской коммунистической партии, так и коммунистическому движению в целом.
Вопрос о возможности многопартийности в стране был окончательно закрыт И. В. Сталиным. Выступая с Докладом о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года, он заявил: «Несколько партий, а значит и свобода партий может существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы которых враждебны и непримиримы… В СССР имеются только два класса: рабочие и крестьяне, интересы которых не только не враждебны, а наоборот – дружественны. Стало быть, в СССР нет почвы для существования нескольких партий, а значит и для свободы этих партий. В СССР имеется почва только для одной партии, Коммунистической партии» [555, с. 523].
Изменения общественно-политической ситуации, глубинные социальные процессы и подъем политической активности в конце 1980-х – начале 1990-х гг. обусловили появление в СССР неформального движения и его поэтапную эволюцию к более совершенным организационным формам. Начиная с 1988 г. в Советском Союзе шел спонтанный процесс образования партий, создавались народные фронты, движения, политические клубы, а с 1990-х – и легальные политические партии.
Современная или «новейшая» партийная система Республики Беларусь существует около двадцати лет. Важнейшей особенностью нынешнего этапа развития белорусского общества является рождение новых политических партий, общественных движений и организаций. Многие партии, не просуществовавшие и нескольких месяцев, распались, не оставив существенного следа в политической жизни белорусского общества. Другие партии, доказавшие свою жизнеспособность, постепенно становятся устойчивыми политическими структурами, стремятся оказывать постоянное влияние на социально-политическую ситуацию в стране посредством парламентских и других акций, ведут активную организаторскую, пропагандистскую и агитационную деятельность, пытаясь занять важное место в общественно-политической жизни республики. Их деятельность в стране регулируется Законом Республики Беларусь «О политических партиях» [58]. Согласно этому Закону партия может быть зарегистрирована при наличии 1000 членов (учредителей) из большей части регионов страны. Членство в политических партиях страны фиксированное.
В настоящее время политические партии существуют во всех цивилизованных странах мира и представляют собой оружие в парламентской борьбе различных групп и слоев современного общества, важнейший инструмент формирования гражданского общества.
Типология политических партий как объект социологического анализа
Политические партии во всем многообразии обладают не только внешне схожими признаками, параметрами и функциями, но и определенными общими чертами. Это позволяет классифицировать их по различным основаниям, разработать типологию, создать специальную классификацию. Типология политических партий – многомерная классификация, представляющая целостную систему типов, объединенных неким общим началом, общей природой, происхождением, общей средой существования, сущностными свойствами. Тип политической партии – это такая система ее существенных признаков, в которых выражается социальная природа партии, ее идейная основа, главная социально-ролевая функция, особенности внутреннего устройства и преобладающий характер методов политической деятельности. Однако при определении типологии партий используется какой-либо один системообразующий, основополагающий признак. Его считают самым существенным и из него выводят остальные характеристики.
«Фиксированное множество политических проблем, – считает известный российский исследователь Александр Кулик, – образует систему классификации, в которой класс интерпретируется как некоторая область в п – мерном пространстве признаков, задаваемая совокупностью их значений. Место партий в нем определяется набором значений ее базовых характеристик (признаков) на множестве проблем, служащих основанием классификации» [416, № 3, с. 61].
Современная классификация политических партий возможна и необходима и в теоретическом, и в практическом отношениях. При этом классификация типов политических партий признается важнейшим приемом социологического исследования и выражает особенности методологического подхода к проблемам формирования современного института многопартийности. При всем многообразии вариантов типологии, возможностей их систематизации по различным критериям в социологической науке отсутствует универсальная схема классификации политических партий. Исходя из многообразия и наличия различных типов политических партий признается, что любая форма классификации носит условный характер. Теоретический анализ политических партий усложняется появлением новых типов политических партий.
Классификация политических партий позволяет сгруппировать их по сходным признакам или параметрам для выработки общих методов анализа политической деятельности, совершенствования управления и регулирования. Она обусловлена многими критериями социально-политического и идейно-нравственного характера. Среди них – цели и задачи партии, ее социальный состав, стратегия и тактика, в том числе взаимоотношения с властью, эффективность политических действий, электоральное поведение, национальные и религиозные доктрины, мотивы политического влияния партийных лидеров. В основу типологии современных политических партий могут быть положены и такие факторы, как классовая природа, политические цели, происхождение, внутренняя структура, особенности членства, положение в политической системе и др. С практической точки зрения классификация политических партий важна по трем причинам:
1) нахождение сходных партий по каким-либо параметрам помогает создавать конкретные методики для их анализа;
2) возможность определения их распределения по различным кластерам позволяет формировать более эффективное законодательство;
3) принадлежность партии к той или иной группе позволяет определить их отношение к политической деятельности, конкретным политическим событиям.
Одна из самых первых попыток классифицировать партии была предпринята в XVIII в. Давидом Юмом. Он типологизировал партии по признакам, объединяющим ее членов. Ему удалось выделить «партии по интересам», «партии по афоректам» (ориентированные на лидера), «партии по принципам». Д. Юм отдавал предпочтение третьему типу, так как эти партии основаны на общих идеях, которые по сравнению с другими критериями носят долгосрочный и неслучайный характер [596].
Известный французский историк и государственный деятель Алексис де Токвиль в работе «Демократия в Америке» предложил классификацию партий на основе взаимосвязи между политическими структурами и всеобщей социальной организацией. Придерживаясь негативной американской традиции, он утверждал, что не следует говорить о партиях в государствах с огромной территорией, где интересы отдельных социальных и национальных групп расходятся настолько, что превращают их в маленькие своеобразные народы. Чтобы появились политические партии, «малосовместимые со свободными правительствами», различия между социальными группами должны распространяться на всю страну.
В созданной Токвилем теории политических партий важнейшим параметром является спецификация различных фаз истории. В определенные исторические периоды народными массами овладевает идея коренного преобразования общества. Когда кризис существенно обостряется и происходят великие потрясения, наступает время «великих» политических партий. Они, вдохновленные моралью гражданственности, выходят на авансцену политики, формируют общественное мнение и способны спасти государство от катаклизмов, они имеют принципы, идеи, смелость, убежденность в правоте дела, способны решать крупные проблемы. В периоды относительной политической стабильности, когда, по словам А. де Токвиля, «история близка к завершению», наступает время «малых партий», которые своими интригами раскачивают государство, развращают общество, «сеют смуту» и рознь в обществе. А вообще «партии – вот зло, присущее свободным правлениям» [189].
Немецкий классик социологии Макс Вебер первым из большого количества политических партий выделил две пары партийных типов на основании стратегии реализации исходных целей группировок (патронажный и мировоззренческий) и принципов внутренней организации (партия знати и массовая партия). Партии патронажного типа стремились обеспечить своему лидеру важный пост в государстве, для того, чтобы он в свою очередь гарантировал своим последователям высокие государственные посты после победы. Политические партии такого типа не придерживались какой-то более-менее внятной идеологии, использовали в своих программных заявлениях те положения, которые обладали наибольшей воздействующей силой на избирателей. Задачей мировоззренческих политических структур была реализация определенных политических идеалов, хотя это также не исключало возможности поддержки со стороны своего патрона. Партии знати являлись господствующим партийным типом до введения всеобщего избирательного права, представляя собой персональную сеть друзей и клиентов местной элиты, образующую ядро таких объединений. С расширением избирательного права на политическую авансцену вышли массовые партии, создавшие постоянные членские организации и ставшие связующим звеном между новым электоратом и важнейшими государственными и политическими институтами [26, с. 88].
Типология политических партий в работах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и их последователей зиждется на социально-классовых основаниях. Рассматривая политические партии как организационно-политическую форму выражения классовых интересов, марксисты исходят из первичности экономических потребностей классов и классовых противоречий по отношению к другим факторам. В рамках марксистской теории классовая сущность политической партии является системообразующим, наиболее фундаментальным, устойчивым признаком, определяющим содержание и формы деятельности партий, в то время как все остальные параметры изменчивы и подвергаются постоянным изменениям.
Известный российский исследователь Павел Берлин предложил классификацию политических партий в соответствии с видами социальных интересов. Причем в основу своей классификации он положил капиталистический строй. Все политические партии делятся на типы в зависимости от своего отношения к данному общественному строю:
реакционные партии, которые влекут капиталистический строй к изжитым формам докапиталистического общества;
консервативные партии, стремящиеся сохранить в нынешнем строе те элементы и отношения, которые, по крайней мере, мешают дальнейшему движению вперед, тормозят его;
либеральные партии, стремящиеся к наибольшему развитию капиталистического строя, борясь с такими угрозами, которые вырабатывает сам капиталистический строй;
демократические партии, стремящиеся в переделах капиталистического строя улучшить жизнь широкой массы;
социалистические партии, опирающиеся на те элементы, которые, создаваясь под воздействием капитализма, разлагают последний, стремятся к замене капиталистического строя социалистическим [14, с. 72–73].
Анализируя типологию политических партий и их эволюцию под влиянием субъективных факторов и объективных условий, П. Берлин приходит к выводу, что, «вырастая на почве классового расчленения общества, основные политические партии дают новые ответвления, питаемые отчасти расхождением социальных интересов внутри одного и того же класса, а отчасти недостаточным развитием классового сознания. Эта последняя причина ведет к тому, что в каждой политической партии есть для классового анализа иррациональные причины, так сказать, в классовом отношении невменяемые элементы. По мере дальнейшего культурного развития число подобных элементов все уменьшается и политические партии все более и более начинают соответствовать социальным классам» [14, с. 109–110].
В основе ленинской классификации, базирующейся на классовом подходе, лежит деление политических партий на пролетарские, мелкобуржуазные, помещичьи, монархические. В работе «Опыт классификации русских политических партий» В. Ленин предложил несколько иную классификацию: черносотенцы, октябристы, кадеты, трудовики, социал-демократы [430, с. 21–22].
Тот же принцип классового деления использует в своей «Таблице русских политических партий» Е. Черский. Он создает своего рода классификатор – матрицу, подразделяя партии «по вертикали» в соответствии с их положением в политическом спектре, а «по горизонтали» в соответствии с отношением к общим принципам, лидерам, программе, организации, тактике, пропаганде, вопросам войны, мира и государственного устройства России. В «Таблице» перечислены 16 российский политических партий – субъектов политического процесса, отражавших весь спектр российского общества того времени: от Святой Руси (бывшего Союза русского народа) справа до анархистов-синдикалистов на левом фланге [185, с. 126; 210].
Ю. Мартов брал за основу отношение партий к существующей государственной системе, формам и методам ее реформирования. Отсюда – их деление на реакционные, умеренно-консервативные (октябристы), либерально-демократические (кадеты), революционные [123; 124].
Известный исследователь Фридрих Ромер создал теорию партий, которая в свое время пользовалась значительной популярностью. По Ф. Ромеру, радикальная партия соответствует подростку, либеральная – юноше, консервативная – мужчине, абсолютистская – старику. Правильную позицию занимают лишь две средние партии. Радикальный принцип «необуздан, как подросток», абсолютистский – «бессилен, как старик». «Происхождение партий, – считает Ромер, – обусловлено органическим развитием человека, т. е. возрастными ступенями человеческого духа» [67, с. 56–57].
Немецкий политолог и социолог Макс Вебер выделил основные этапы процессов создания, формирования и развития политических партий, результатом которых является формирование партий-корпораций, включающих в себя:
протопартийные организации с элементами клики;
дворянские партии, к которым близко примыкали партии «уважаемых людей»;
временно организованные группировки для победы на выборах;
джентльменские партии;
нерегулярные политические союзы;
локальные политические клубы, образованные вокруг избранных участников;
современные политические партии, когда из временных партии превращаются в постоянные, становятся корпорацией с разросшимся партийным аппаратом, капиталистическим предприятием [26].