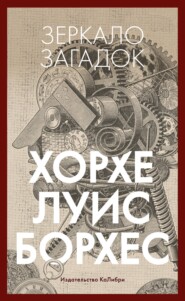По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
цветы в твоих склепах, выращенные в память о мертвых, —
и о причинах их милой и сонной жизни
при страшных останках тех, кого мы любили.
Я загадал загадку, но я скажу и ответ:
цветы – извечные спутники смерти,
поскольку люди всегда непостижимым образом знали,
что соседство сонных и милых цветов —
это лучшее, что может случиться с мертвыми,
ибо цветы не оскорбляют их гордостью жизни
и живы не более, чем они.
Франсиско Лопесу Мерино
Если ты по собственной воле покрыл себя смертью,
если ты решил отказаться от всех рассветов мира,
напрасно обращать к тебе отвергнутые слова,
обреченные на поражение.
Мы можем только сказать:
позор цветам, не знавшим, как тебя спасти,
бесчестье дню, что позволил тебе застрелиться.
Что может противопоставить наш голос
тому, что уже подтвердили кончина, слезы и мрамор?
Но есть такая нежность, которую не умалит никакая смерть:
сокровенные, смутные новости, что несет в себе музыка,
родина, сводящаяся к смоковнице и колодцу,
и притяжение любви, несущее нам оправдание.
Я думаю о них, а равно и о том, мой сокрытый друг,
что ты сам сотворил себе образ смерти:
и знал ты, что девчушку повстречаешь,
о которой писал еще в детстве школярским почерком,
и захотел раствориться в этом образе, как во сне.
И если это правда и, когда время нас покидает,
мы познаем осадок вечности, вкус мира,
тогда и смерть твоя легка,
как те стихи, в которых ты нас вечно ждешь,
и сумрак твой тогда не осквернят
голоса зовущих друзей.
Северный квартал
Это раскрытье секрета
из тех, что хранят по никчемности и невниманью;
ни при чем здесь тайны и клятвы,
это держат под спудом как раз потому, что не редкость:
такое встречается всюду, где есть вечера и люди,
и бережется забвеньем – нашим жалким подобьем тайны.
Этот квартал в старину был нашим лучшим другом,
предметом безумств и попреков, как всё, что любим;
и если тот пыл еще жив,
то лишь в разрозненных мелочах, которым осталось недолго:
в старой милонге, поминающей Пять Углов,
во дворике – неистребимой розе между отвесных стенок,
в вечно обшарпанной вывеске «Северного Цветка»,
в завсегдатаях погребка за картами и гитарой,
в закоснелой памяти слепого.
Эти осколки и есть наш убогий секрет.
Словно что-то незримое стерлось:
бестелесная музыка любви.
Мы с кварталом теперь чужие.
На пузатых балкончиках больше не встретимся с небом.
Боязлива обманутая нежность,
и звезда над Пятью Углами уже другая.
Но беззвучно и вечно —
всем, что отнято и недоступно, как всё и всегда на свете:
жилковатым навесом эвкалипта,
бритвенной плошкой, вобравшей рассвет и закат, —
крепнет порука участья и дружелюбья,
тайная верность, чье имя сейчас разглашаю:
квартал.
Пасео-де-Хулио
Клянусь, что я не нарочно вернулся на улицу
с высоким навесом, словно повторенным в зеркалах,
где полно решеток, на которых жарится мясо из Корралеса,
где полно проституток, прикрытых одной лишь музыкой.
Изувеченный порт без моря, запертый соленый ветер,
похмелье, прибивающее к земле: Пасео-де-Хулио,
хотя мои воспоминания, давние до нежности, и хранят твой образ,
я никогда не чувствовал тебя родиной.
О тебе я располагаю только головокружительным незнанием,
собственность эта зыбка, как у птиц в небе,
но стих мой – это вопрошание и опыт,
и я буду верен увиденному.
Прозрачная ясность кошмара у подножья других районов,
твои кривые зеркала обличают безобразные стороны лиц,
твоя ночь, накаленная в борделях, нависает над городом.
и о причинах их милой и сонной жизни
при страшных останках тех, кого мы любили.
Я загадал загадку, но я скажу и ответ:
цветы – извечные спутники смерти,
поскольку люди всегда непостижимым образом знали,
что соседство сонных и милых цветов —
это лучшее, что может случиться с мертвыми,
ибо цветы не оскорбляют их гордостью жизни
и живы не более, чем они.
Франсиско Лопесу Мерино
Если ты по собственной воле покрыл себя смертью,
если ты решил отказаться от всех рассветов мира,
напрасно обращать к тебе отвергнутые слова,
обреченные на поражение.
Мы можем только сказать:
позор цветам, не знавшим, как тебя спасти,
бесчестье дню, что позволил тебе застрелиться.
Что может противопоставить наш голос
тому, что уже подтвердили кончина, слезы и мрамор?
Но есть такая нежность, которую не умалит никакая смерть:
сокровенные, смутные новости, что несет в себе музыка,
родина, сводящаяся к смоковнице и колодцу,
и притяжение любви, несущее нам оправдание.
Я думаю о них, а равно и о том, мой сокрытый друг,
что ты сам сотворил себе образ смерти:
и знал ты, что девчушку повстречаешь,
о которой писал еще в детстве школярским почерком,
и захотел раствориться в этом образе, как во сне.
И если это правда и, когда время нас покидает,
мы познаем осадок вечности, вкус мира,
тогда и смерть твоя легка,
как те стихи, в которых ты нас вечно ждешь,
и сумрак твой тогда не осквернят
голоса зовущих друзей.
Северный квартал
Это раскрытье секрета
из тех, что хранят по никчемности и невниманью;
ни при чем здесь тайны и клятвы,
это держат под спудом как раз потому, что не редкость:
такое встречается всюду, где есть вечера и люди,
и бережется забвеньем – нашим жалким подобьем тайны.
Этот квартал в старину был нашим лучшим другом,
предметом безумств и попреков, как всё, что любим;
и если тот пыл еще жив,
то лишь в разрозненных мелочах, которым осталось недолго:
в старой милонге, поминающей Пять Углов,
во дворике – неистребимой розе между отвесных стенок,
в вечно обшарпанной вывеске «Северного Цветка»,
в завсегдатаях погребка за картами и гитарой,
в закоснелой памяти слепого.
Эти осколки и есть наш убогий секрет.
Словно что-то незримое стерлось:
бестелесная музыка любви.
Мы с кварталом теперь чужие.
На пузатых балкончиках больше не встретимся с небом.
Боязлива обманутая нежность,
и звезда над Пятью Углами уже другая.
Но беззвучно и вечно —
всем, что отнято и недоступно, как всё и всегда на свете:
жилковатым навесом эвкалипта,
бритвенной плошкой, вобравшей рассвет и закат, —
крепнет порука участья и дружелюбья,
тайная верность, чье имя сейчас разглашаю:
квартал.
Пасео-де-Хулио
Клянусь, что я не нарочно вернулся на улицу
с высоким навесом, словно повторенным в зеркалах,
где полно решеток, на которых жарится мясо из Корралеса,
где полно проституток, прикрытых одной лишь музыкой.
Изувеченный порт без моря, запертый соленый ветер,
похмелье, прибивающее к земле: Пасео-де-Хулио,
хотя мои воспоминания, давние до нежности, и хранят твой образ,
я никогда не чувствовал тебя родиной.
О тебе я располагаю только головокружительным незнанием,
собственность эта зыбка, как у птиц в небе,
но стих мой – это вопрошание и опыт,
и я буду верен увиденному.
Прозрачная ясность кошмара у подножья других районов,
твои кривые зеркала обличают безобразные стороны лиц,
твоя ночь, накаленная в борделях, нависает над городом.