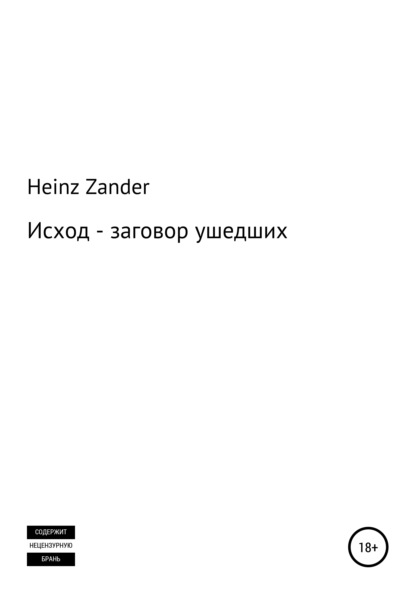По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исход – заговор ушедших. 2 часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…В эти несколько августовских ночей он оказался одинок среди бескрайнего мира. Не было пока еще за плечами Стены, но ее незримое присутствие опять давило его. Появлявшиеся в предутренние часы родители были предвестником, что снова сомкнется за ним непреодолимая завеса. Они словно торопились увидеть его, хотя-бы во сне…
…После торжественного прохождения курсанты, принявшие присягу, растворились в море родственников. Снова опустел плац. На нем, кроме него, остались стоять еще шестеро. Все сначала неуверенно крутили головами, не сходя с места, и со смущенными улыбками, подошли к нему. Перебрасываясь невеселыми шутками, оставшиеся поглядывали с завистью на толпу, стоявшую в очередь на КПП. По кругу пожали друг другу руки и назвались по именам. Все оказались одного возраста, сразу после школы. Все, кроме него, детдомовцы. Кто-то предложил сходить в парк в город, но тут их поймал озабоченный полковник, начальник их курса: «Товарищи курсанты, пусть молодежь гуляет, а мы с вами лучше займемся полезным делом,», – и он пригласил их за собой.
Матрасов, кроватей и тумбочек оказалось бесконечно много. Зато они смогли без суеты сходить в столовую, где их накормили до отвала за всю роту. Немолодая подавальщица участливо приговаривала : «Кушайте, хлопчики. Когда снова так поедите!?» Она вышла к повеселевшим парням, старательно очищавшим очередную тарелку, обошла их стол и внезапно погладила именно его по затылку и ушла к себе. Он замер, парни засмущались и опустили головы ниже к тарелкам, звеня еще старательнее вилками и ложками. «В любой ситуации нет безвыходных положений», – негромко произнес он : «…бывают только те, кто не видит выхода…» Все засмеялись, отпустила тревога и у всех поднялось настроение.
Тот, кто не испугался быть первым – где-угодно, хоть даже в том, чтобы что-то сказать первым – становился поневоле первым во всем. Он впоследствии всегда чувствовал всякий раз от своих сокурсников ожидания, как поступит именно он, когда на занятиях им ставили какую-то очередную задачу.
Его сразу же определили в сборную училища по вольной борьбе. В первые два года он успел выступить на всех возможных соревнованиях – от первенства училища до чемпионата Союза среди высших военных заведений, что мало уступало по рангу нормальному чемпионату страны. Везде он неизменно, и неожиданно для себя, занимал первые места. Тренер сокрушался, что не удалось пристроить его на Спартакиаду дружественных армий, проходившую во Вроцлаве, только из-за досадного промедления в оформлении мастера спорта международного класса. Он внезапно открыл в себе способность ко второму дыханию, изумлявшую не только тренера, но и всех, кому довелось сойтись с ним в схватке.
Ему всегда очень тяжело давалось начало всякого дела, к которому он приступал. Надо всего-лишь было выстоять первые три минуты. За это время он не успевал сосредоточиться. Руки ему отказывали, он проигрывал десяток баллов осмелевшему противнику. Он не слышал ни криков болельщиков, ни отчаянных подсказок тренера. Сидя в перерыве, он, не обращая внимания на тренера, не стеснявшегося в выражениях, слушал свое успокаивавшееся дыхание. Вскакивал, отбросив полотенце, и выходил на центр ковра…
Он помнил все схватки, проведенные им, начиная со второго периода. Соперники (их лица слились в одно, удивленное и отчаивавшееся) двигались настолько медленно, что он упивался от восторга, опережая их, видя, как опаздывали все их попытки провести защиту. Он играл с противником, и удовольствие доставляло замечать яростно жестикулировавшего тренера, показывавшего, что пора заканчивать схватку.
Эти последние броски он много раз проделывал мысленно во сне, чувствуя каждую часть своего тела…
Он вставал и привычно поднимал руку, не дожидаясь, пока ее вздернет рефери на ковре. «…Сколько видел бойцов, но такого, как ты, не могу понять. Какого ху… ты с ним так долго возился!?», – удовлетворенно бубнил КаПэ, Константин Павлович, коренастый, с короткими ногами и изрядным животом : «Ты его тушируй, но и балл не забывай взять. Ну ты и уникум…»
После победы на первенстве Союза, он утратил интерес к возне на ковре. Стало просто скучно, в очередной раз повторять то же самое, что и в первый год. КаПэ его поддержал : «Жаль, конечно, но тебе нужно учиться, а не валять тела по ковру. Только не везде у тебя будет второй период. Береги себя.» И КаПэ его крепко обнял.
Он с легким сердцем завершил со спортом и плавно приступил к изучению иностранных языков. Он не выбирал даже, а, как само собой разумевшееся, погрузился в немецкий. Он быстро понял, что превзошел преподавательницу, после того как она пригласила его к себе домой в субботу.
Немного поговорив о нем самом, о его родителях, она напрямую спросила, откуда у него такое произношение. Он не знал что ответить, он сам чувствовал, что будто живет второй, отдельной жизнью, звучавшей немецкими словами. К нему прилипло второе прозвище – «Немец».
Первым стала его собственная фамилия. Преподаватель тактики, майор Калявин, недовольно заметил ему, что просил называть фамилию. Под хохот аудитории он объяснил майору, что назвал свою настоящую – именно ту, как она записана у него во всех документах. Калявин не поверил и, прочитав в журнале, сказал примирительно : «Ты ни в чем не виноват, фамилия просто такая…», вызвав новый шквал хохота. Терпеливо переждав всеобщее веселье, майор вызвал его к доске.
После контрольной Калявин попросил его зайти в преподавательскую. Майор долго листал журнал, открывая, закрывая, и предложил : «Что Вы думаете, если вас назначить моим помощником по проведению тактических занятий!?» Он совершенно не удивился, потому что сам видел свое превосходство над сокурсниками. Он только уточнил : «Мне сразу давать ответ, товарищ майор?» Тот задумался и сказал : «Обычно просят несколько дней, но вам это не нужно. Вы же и сами все знаете. Кстати, откуда у Вас такая фамилия?» Он усмехнулся : «От отца. А почему у отца такая, я не знаю.» Калявин чуть внимательнее посмотрел на него : «Вы, насколько я информирован, ни разу не ездили домой!? Почему? У вас дома что-то не в порядке? Простите, если я вмешиваюсь не в свое дело. Можете сесть, мы просто беседуем.» Он ответил с задержкой, односложно, пожав плечами : «Нет, все в порядке.» и посмотрел в глаза майору. Калявин смутился и ответил, будто оправдываясь : «Мы ведь не только преподаем, но и воспитываем. Поэтому не обижайтесь, если мы, офицеры училища, интересуемся обстановкой в семье и дома.» Он повторил : «У меня все в порядке.» Майор не стал настаивать : «Ну раз в порядке, значит, к делу. Если согласны с моим предложением, то сначала подпишем приказ. Первый полевой выход проведете со своими товарищами. А потом уже, если хорошо себя покажете, станете моим ассистентом. Война – это, прежде всего, скучная и нудная подготовка, а потом уже беготня со стрельбой. Побеждает не сильный и быстрый, а хорошо подготовленный и умный. Ну в вашей физической подготовке я не сомневаюсь, наслышан…» Калявин дружески улыбнулся : «Отсутствием ума Вы тоже не страдате, так что будем делать из Вас умного командира. Вы можете далеко пойти.»
Он слушал, но не относил все сказанные слова к себе. Он просто жил жизнью, не имевшей ничего общего с жизнью в доме в северном городе с вечным ветром и влажным воздухом..
Еще его удивил преподаватель математики пожилой неприветливый капитан со странной для этого заведения фамилией Сунтор. «…У тебя такая голова, что ты забыл среди этих долбоёбов!?», – как-то выговорил в сердцах капитан, поймав его в коридоре после раздачи контрольных : «…Эти только и способны о голову бутылки, да кирпичи разбивать. Ну с них и спрос невысокий. Но ты-то!?..» Он не мог найтись, что ответить. «И ты станешь таким же. Если не поумнеешь.», – досадливо сказал Сунтор, и не дождавшись ответа, ушел, сутулый и неопрятный. Он тогда так и не понял, почему выделил его математик.
Учеба, полевые занятия, перемежавшиеся кратким отдыхом, катились как на колесах. Он не замечал, насколько короткими стали выходные. Возвращавшиеся из увольнений и самоволок рассказывали о приключениях среди гражданской жизни, о встречах с женщинами, о танцах. Он, естественно, тоже выходил в город. Больше всего он любил спускаться под гору по длинной улице, пересекавшей весь город. Осенью и ранней весной мелкая пыль, что приносило невидимыми тучами со Мстёры, из-за зеленого океана за Окой, стекалась в бесконечные брустверы липкой глинистой грязи. Через эти валы надо было перепрыгивать, чтобы приземлиться на подножке городского автобуса. И не раз, не рассчитав прыжок, он втаскивал с собой в автобус кучку грязи, выдавливавшейся, как из тюбика, из ботинка.
В одну из таких прогулок он открыл городскую библиотеку. Он пропадал там в увольнениях, читая все подряд – в основном, из истории. И совсем не обращал внимания на молодую библиотекаршу, подносившую книги ему прямо к столу. Свобода чтения стоила всего на свете…
На танцы его буквально затащили сокурсники. Девичья половина пополнялась студентками из Радиотехнического института и близлежащих ПТУ. Посещали танцы и патрульные – где можно еще было выполнить план по отлову «дезертиров»!? На него откровенная «ловля» женихов произвела унылое впечатление. Самыми неразборчивыми были старшекурсники. У них поджимало время найти себе жену и домашний уют. Попасть служить в Германию или Венгрию считалось слишком невероятным везением. Даже Алитус казался удачей, не говоря уже о почти «заграничном» Вильнюсе. А в целом рассчитывать можно было лишь на Среднюю Россию, Кировабад в заброшенной дыре в Армении, или Фергану, бывший Скобелев.
Потому и спешили курсанты и уводили в начале весны всех стоящих девчонок.
Танцы в Доме офицеров напоминали ему деревенскую дискотеку в Пушкинских Горах. Местные девки там были избалованы всенародным вниманием к знаменитому земляку и не испытывали дефицита в самых экзотических и видных кавалерах. Приемы, которыми приближались достойные или отшивались негодные, не отличались нигде. Проходила все та же охота с целью ненадолго поиграть или наоборот – ухватить добычу и уже не отпускать. Вероятно, кто-то, прояви он терпение, смог бы получить и его в качестве желанного приза. Но ему стало скучно и он, бросив партнершу посреди танца, торопливо вышел.
Перед входом он наткнулся на патруль. Курсанты-патрульные были свои, они узнали его. Командир, молодой капитан-связист, отпустил их ненадолго, а сам, закурив, подозвал его и беззлобно поддел:. «Ну что, курсант, теряешь время? Жену искать надо, а ты растерялся…» Он натянуто улыбнулся капитану : «Да как-то не хочется…» «Смотри, останешься бобылем и служба будет не в радость»,– капитан обрадовался возможности скоротать время : «Потом не наверстаешь потерянное. Век военного недолог. Ты куда?..» Капитан вынул сигарету изо рта, увидев, что собеседник нетерпеливо оглядывается по сторонам. «Куда ты уже пойдешь? Час поздний…» Он захотел остаться один и, буркнув неприветливо, двинулся вниз по лестнице. «Ну ты и бирюк, парень. Таких девки не любят.», – пытался удержать его капитан, но, поглядев на него, отвернулся.
Он неспеша направился пешком в училище, радуясь теплому ветру, обдувавшему лицо.
Среди однокурсников он сблизился с Мишкой Селиверстовым. Их породнило то, что и у одного и у другого не было заметных успехов на «женском фронте». Как-то раз он, постояв на краю вертевшегося моря пар, так и не решившись никого пригласить, повернулся к выходу. Приунывший однокурсник – он знал его по фамилии – засобирался тоже. Получив шинели у хихикавших гардеробщиц, они – Мишка и он – подошли одновременно к зеркалу, в котором поймали каждый взгляд другого. После чего рассмеялись. «Курсант второго курса факультета спецназа Михаил Селиверстов!», – ухмыляясь, сообщил Мишка. Он хмыкнул : «Что так официально?», после чего сказал о себе. «Про тебя-то наслышан», – с оттенком уважения сказал Мишка. Наверное, это, он пришел гораздо позднее к выводу, и сблизило их. Они, помешкая в дверях и уступая друг другу, вышли наружу.
Разговор протекал самый незатейливый – откуда кто приехал, кто чем интересовался и вообще ни о чем, но как могут только говорить люди, давно знавщие друг друга. После неудавшегося выхода «в свет» они с Мишкой стали проводить свободное время вместе. Мишка не рассказывал почти ничего о своей прошлой жизни, но ему стало понятно, что их обоих объединило желание оторваться от их прошлого и разобраться с чем-то тайным в своих душах. Он видел свое превосходство над Мишкой во всем – и в физическом развитии и в происхождении из более изощренного мира. Он делился с Мишкой, как само собой разумевшееся, всем, что успел узнать, так что Мишка не успевал признаться в невежестве. Он таскал его всюду, куда хотел идти – в городскую филармонию, в художественный музей, в библиотеку… Мишка слушал его, не осмеливаясь возражать, но, что ему особенно нравилось, не конфузившись от превосходства друга. То, что они с Мишкой друзья, он знал без всякого сомнения.
«Мишка, давай свалим в город!?», – предложил он, когда они встретились в читальном зале училища. Их курс засадили за самоподготовку к выходу на полевые занятия : изучить карты, просчитать варианты подходов, выкладки тактических и огневых рубежей. Мишка недоверчиво покосился на бесконечные ряды курсантов, обсевших столы, на груды книг и пособий, которые таскали от стойки библиотекаря и обратно, и заулыбавшись, поддержал : «Пошли! Потом сдуем у Сережки Митусова.» Он добавил : «А если упрется, то мы у него отнимем. Куда ему против нас!?» Он только задержался возле стола, за которым согнулся Лёшка Пронин, бессменный отличник на курсе, и сказал : «Лёш, мы отлучимся на пару часов, сдай наши пособия…» Лёшка поднял отсутствовавшие глаза, силился что-то спросить, но смог только кивнуть, пребывая где-то далеко-далеко. Оставалась нерешенной только проблема с Арцюхом, въедливым коренастым украинцем из медвежьего угла в Закарпатье – тот бы занудил и доложил начальству. Но он не стал загружать себе голову понапрасну.
В Рязани царствовала весна.
Не та, ранняя, когда вперемежку сыпался надоедливый дождь (точь в точь как в осенью в Ленинграде) и проникал нестойкий солнечный свет из разрывов низких облаков, наплывавших из-за Оки, с Мещёры. Нескончаемые валы глинистой грязи, отделявшие тротуар от мостовой, ссохлись и опадали мелкой пылью, взрывавшейся облачком при попадании в них ноги. Запах раскрывавшихся почек растворял в себе улицы, здания, деревья…
Они бродили по спускавшимся и поднимавшимся в гору улицам без всякой цели. Страха налететь на патруль не было вовсе, хотя они и условились не заходить на людные центральные места.
«Прыжок через забор» удался.
Он выбрал не облюбованное большинством «самоходчиков» место, у которого подстерегал патруль либо дежурные по училищу. Он всегда удивлялся отсутствию фантазии тех, кого ловили при приземлении – будь это снаружи, то в самом училище, когда довольный тем, что не попался в городе, курсант преодолевал последний рубеж и оказывался в крепких руках дневальных. Он как-то усмотрел кривую сосну, росшую сиротливо в отдалении. В этом углу никогда не сторожили, потому что совершенная гладкость стены не давала и тени предположения о том, что ограду можно преодолеть. Его внимание обратилось на длинную ветку, протянувшуюся к самой ограде, и однажды он подошел туда. Схватившись за ветку, он согнул ее, подавшуюся без усилий, и отпустил. Ветка разогнулась с резким пружинившим звуком, так что он отпрянул, и качалась еще долго, совершая размах в добрый метр. Он представил вдруг себя вставшим на ветку, раскачавшимся на ней, и как вдруг он достает руками верхнего края забора…
…Так и случилось – сначала, раскачавшись, прыгнул он и ухватился за край стены. Легко подтянулся и очутился наверху. Ограда, как он уже успел раньше посмотреть, выходила на людную улицу. Именно поэтому-то тут и не сторожили. «Мишка, давай…», – сказал он, усевшись на ровном, шириной в два кирпича, заборе. Мишка, опасливо встал, раскачался и неловко подпрыгнул, вытянув руку вверх. Но он тут же подхватил Мишку и вытащил его к себе. «Ну ты прямо как подъемный кран…», – восхитился Мишка.
После чего они спрыгнули в город.
Именно в тот день он впервые зашел за линию, отделявшую его жизнь, направляемую чужой волей, от Неведомого.
Возвратившись, он нашел себя изменившимся…
Они решили перекусить, для чего выбрались на улицу за пределами центральных. В кулинарии имелось крохотное кафе с обычным небогатым выбором – кексы, кофе светло-коричневого цвета наливаемого в стаканы. Взяв по два кекса и по стакану кофе, они пошли к двери. «Курсантики,», – крикнула буфетчица : «стаканы только верните…»
Пока Мишка отвечал, он первым вышел из магазина. На улице, хоть и пустынной, решили не оставаться и завернули за угол. Там как раз деревянные потемневшие дома безыскусного, барачного, малоухоженного вида, образовывали уютный дворик, скрывавший от любопытных глаз.
Они устроились на кое-как сваленных распиленных стволах тополей. Мишка тут же разыскал ящик, на который они поставили еще не остывшие стаканы с кофе. Никакой бумаги, ни даже газеты, не нашлось, и он, брезгливо обтерев рукавом шинели ящик, осторожно положил кекс. Мишка недоверчиво наблюдал за ним и положил свой. «Кофе какой-то горький…», – заметил Мишка, с наслаждением отхлебывая из стакана. Он не успел ответить – скрипнуло, раздалось небрежное шарканье.
Неопределенного возраста и вида мужик, стоя на грубом крыльце, вяло проговорил : «Эй, чего ящик без спросу берете?» Он положил кекс обратно и оглядел говорившего, не отвечая. Мишка же ел и запивал с удовольствием. «Тебе жалко? Мы тебе принесем сколько-угодно этой рухляди, ты только скажи сколько и куда..», – добродушно проговорил Мишка, справившись с кексом, не выпускаяя опустевший стакан.
Скрипнула дверь еще раз – высунулся другой, помоложе. «Сынки совсем припухли, старшего посылают…», – удивился он и вылез полностью на крыльцо. Первый даже не сдвинулся, держа руки опущенными. Его приятель пролез между стоявшим и стенкой крыльца, спустился на землю. «…Ну вам что сказали!?», – чуть повышая голос, он двинулся к курсантам. Мишка осторожно поставил стакан и смотрел с любопытством на приближавшегося к ним. Хлопнула форточка слева от крыльца. Оттуда беззвучно выглядывало чье-то лицо.
«…Ну ты, еврей… Я же тебе сказал…» Он молча встал напротив Мишки. В груди, глубоко, разлился холодок. Мужик уже подошел вплотную – расстегнутая куцая телогрейка открывала синюю выцветшую майку. Бледно-молочные руки с разрисованными синим пальцами, далеко вылезали из рукавов. Он остановился в полутора шагах. Лицо было беззлобным, таким же молочно-белым как руки. «…Ящики, говорите, принесете!?», – задумчиво повторял он, глядя больше себе под ноги, не встречаясь глазами, и вообще не делая никаких движений. «Скидывайте сапоги и шинели…», – решительно предложил мужик. Мишка чуть отпрянул. Он коротким рывком затянул ремень, подергал ногами. Мишка, почувствовав его движение, оглянулся. «Давайте, ребятки, шинели. И с обувкой не задерживайте…» – голос, но уже не вялый, а вполне твердый раздался слева.
Они не успели даже заметить, как первый, стоявший все время на крыльце, оказался рядом, с другой стороны. Он был одет похоже, но в застегнутой телогрейке и в завернутых до середины голени серых сапогах. И руки его шевелились.
Но его загораживал Мишка.
Руки и ноги будто примерзли к телу. Только от прижавшегося к нему Мишки шло тепло. Но он внимательно наблюдал за тем, кто стоял ближе к нему. А он и не двигался, будто выжидая. Краем глаза он ухватил короткое движение слева. Только чуть охнул Мишка и полностью закрыл его. Мишка мешал, и он инстинктивно сделал шаг назад. Тот, кто стоял перед ним, отпрянул. Этой заминкой он воспользовался и, сделав еще шаг назад от продолжавшего стоять Мишки, очутился лицом к лицу с тем, кто до сих пор был скрыт от него другом. От блеска в руке нападавшего, его будто обрушило с размаху в прорубь. И тут же его охватил испепелявший жар.
Руки привычно захватили ту руку, с ножом, корпус произвел рывок с поворотом, и чужое тело, тяжесть которого он не ощутил вовсе, пролетело мимо него. Он не стал смотреть, как оно упало, и, молниеносно, обойдя Мишку, оказался лицом к лицу со вторым, который еще не успел сделать ни шага.
Он словно опять попал в то, знакомое, пространство, из которого чужое движение виделось неповоротливым, неловким, замедленным. Он видел все, замечал все и мог делать с тем, кто вышел против него, все что-угодно…
…Второй полетел через голову, нелепо выставив руки. Спустя секунду раздался сдавленный выкрик. Сбив ящик, на котором стояли стаканы, ворочался первый, брошенный им. Мишка осторожно-медленно с тихим вздохом садился на землю. Он поддержал его и увидел красное пятно, раслывавшееся по ворсу шинели. Выбитый нож с обмотанной синей изолентой рукояткой валялся у ящика.
Он навсегда запомнил, как он был спокоен, когда резко заломил руку, из которой выпал нож. И помнил с наслаждением хруст, животный вопль и бесчувственное тело на земле. Как неспешно подошел ко второму, внимательно посмотрел в его глаза. Видел, как тот закрывается синими пальцами. После тяжкого глухого удара носком ботинка из-под низу в челюсть опало второе тело…
Мишка сидел на земле, изо-всех сил стараясь удержаться прямо, зажимая руками живот. Из-под рук проступали красные пятна, растекаясь и темнея. «…Не бросай меня…», – прошептал Мишка, силясь не закрывать глаза на белом лице. Хлопнула форточка, за нею резко отпрянули, стало тихо во дворе…
«Миш, ну что ты такое говоришь…», – он склонился к Мишке, погладил его по лицу.. «…Что ты меня как покойника…», – пытался пошутить Мишка, но сомлел и уронил голову. Он присел над Мишкой, стал хлопать его по лицу, трясти. Мишка ненадолго выплыл из забытья.